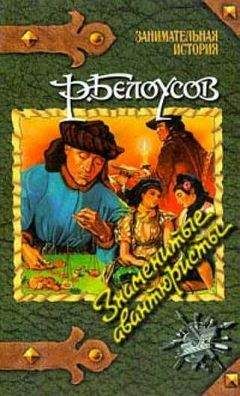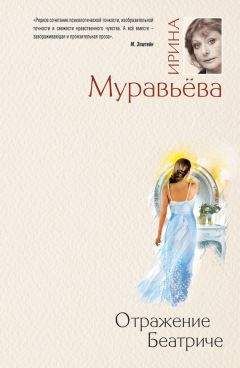Ситуация, что и говорить, складывалась незавидная. «Самые высокие сановники церкви кружатся в вальпургиевой пляске с шарлатанами-пророками, мошенниками и публичными девками, — запишет Т. Карлейль. — Трон был приведен в скандальное столкновение с каторгой, — продолжает он. — Изумленная Европа в продолжение девяти месяцев толкует об этих мистериях и ничего не видит, кроме лжи, которая все увеличивается новой ложью».
Защищаясь, Жанна ловко пользовалась отсутствием улик и вещественных доказательств. Бриллианты уплыли в Лондон вместе с мужем — чрезвычайно важным свидетелем. Это было на руку Жанне, она продолжала цинично опровергать изобличающие ее факты, измышляя свою версию преступления.
Да, действительно, во время свидания в саду д’Олива разыграла роль королевы, заявляла она. Но таково якобы было желание самой Марии-Антуанетты, которая наблюдала за этой сценой, спрятавшись за деревьями. Что касается поддельной подписи, то и об этом королева знала. А бриллианты, которые ее муж продал в Лондоне, получены в награду от той же королевы. Поскольку Мария-Антуанетта не могла открыто носить ожерелье в его первоначальном виде, так как оно было хорошо известно королю, она его разобрала, чтобы составить другое по новому рисунку. При переделке ожерелья лишние камни были переданы ла Мотт в награду за сохранение тайны…
Между тем следствие подошло к концу. Жанна де ла Мотт и остальные привлеченные по делу предстали перед парижским парламентом — высшей судебной инстанцией. На этом настаивала сама Мария-Антуанетта. Если бы вершить правосудие взял на себя король, на что он имел право как верховный судья, противники власти могли бы поднять шум, обвиняя в необъективности судебную процедуру. В этом состояла непростительная ошибка королевы. Случилось так, что на протяжении многих месяцев ее персона бурно обсуждалась не только во Франции, но и за ее пределами, и репутации Марии-Антуанетты был нанесен непоправимый ущерб. Как и королева, Роган предпочел, чтобы дело рассматривал парламентский суд, а не король. В послании к нему кардинал так объяснял свое решение: «Сир, я надеялся при личной встрече представить доказательства, которые убедили бы Ваше Величество в несомненном мошенничестве, жертвой которого я стал, и мне никогда бы не потребовалось иных судей, чем Ваша справедливость и Ваша доброта. Отказ от аудиенции лишает меня такой надежды, и я принимаю с самой уважительной признательностью данное Вашим Величеством мне позволение доказать свою невиновность через юридические инстанции, и в результате я прошу отдать необходимые распоряжения, чтобы мое дело было направлено в парижский парламент…»
Помимо переписки, которую кардинал вел открыто, он прибегал и к тайной корреспонденции. Роль почтальонов играли двое врачей, навещавших его в камере. Записки, написанные в целях конспирации симпатическими чернилами, адресовались главным образом адвокатам. В них согласовывались ответы на предстоящих очных ставках, уточнялось, какие показания давать, и т. п. Случалось ему в них и жаловаться на тяжелые условия содержания в тюрьме, на то, что его изнуряют многочасовые допросы, на то, что злодейка, то есть Жанна де ла Мотт, вселяет в него ужас. И только однажды под покровом невидимых чернил возникло упоминание о королеве: «Сообщите мне, правда ли, что королева постоянно пребывает в печали».
Процесс велся с соблюдением необходимых юридических правил. И ни одна деталь судебной процедуры не была утаена. Парижане знали о всех перипетиях разбирательства, которое, разжигая всеобщее любопытство, порой принимало скандальный характер.
Мнение публики, надо сказать, резко разделилось. Одни считали Рогана виновным и не сомневались, что Жанна была его любовницей. Другие, в особенности женщины, заявляли о своей поддержке его преосвященства и в знак солидарности стали носить красно-желтые ленты, что являлось символом — «кардинал на соломе», то есть в тюрьме. Эти горячие защитницы Рогана, как писал очевидец событий, были тронуты той деликатностью, которую кардинал проявил в первый день своего заточения, поручив своему доверенному лицу аббату Жоржелю уничтожить мнимую переписку с королевой.
Что касается Жанны, то на суде она продемонстрировала поразительное присутствие духа, была неистощима в изворотливости. Когда видела, что рушится построенная ею система защиты, не моргнув глазом, тут же выдвигала новые факты, естественно выдуманные. Если и их опровергали, не раздумывая ссылалась на другие, не менее воображаемые.
На вопрос, откуда у нее оказалось сразу так много денег, отвечала, что это должно быть лучше известно кардиналу — ведь она была его любовницей и он ее содержал. Одному свидетелю, показавшему против нее, заявила, что с его стороны нахальство выдвигать против нее обвинения, после того как он хотел ее изнасиловать. Другого, священнослужителя, обвинила в том, что он распутный монах, поставлявший молодых девушек ее мужу, к тому же кравший вещи из ее ящиков.
В Калиостро она швырнула бронзовый подсвечник после того, как он назвал ее «дьявольской проституткой», и, громко хохоча, напомнила ему, как он любезничал со «своим голубком» и приставал к ней с прочими воркованиями. Скандальная сцена разыгралась во время ее очной ставки с д’Олива и Вильетом, в результате которой она вынуждена была признаться в том, что до сих пор упорно отрицала. После чего с ней случился обморок. Побежали за уксусом. И когда тюремщик поднял ее на руки, чтобы отнести в камеру, она, очнувшись, до крови укусила его в шею.
Механизм дознания с неумолимой последовательностью продолжал действовать не в ее пользу. Понимая, что положение ее становится все отчаяннее, Жанна начала ссылаться на какую-то будто бы существующую тайну, которую откроет только с глазу на глаз государственному министру. Всем было ясно, что это лишь уловка. Тогда она начала симулировать безумие. Перебила все в камере, отказывалась от пищи, тюремщики не раз заставали ее лежащей совершенно обнаженной на кровати. Но ничто ей не помогло.
Судебные процессы того времени пользовались всеобщим вниманием, публика рассматривала их как забавное развлечение. Этому способствовал и обычай публиковать выступления — обвинения и защитительные речи, или, как их еще называли, «Объяснительные записки» адвокатов. Таким образом, поединок прокурора и защиты становился всеобщим достоянием. Материалы эти, печатавшиеся во время процесса, широко распространялись среди тех, кто не имел возможности присутствовать в зале суда, но жаждал узнать подробности столь скандального дела. Особым успехом пользовались речи защитников. По закону не подлежащие цензуре, они расходились огромными тиражами. Публика чувствовала, что на процессе речь идет не столько о похищении ожерелья, сколько об обвинении власти предержащей. «Какое великое и многообещающее событие! — писал один из тайных фрондеров в парламенте. — Кардинал изобличен в мошенничестве! Королева запутана в скандальном процессе! Какая грязь на посохе епископа, какая грязь на скипетре! Какой триумф идей свободы!»