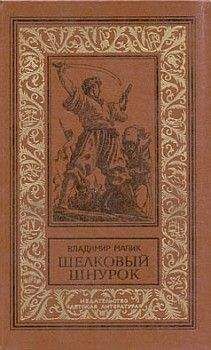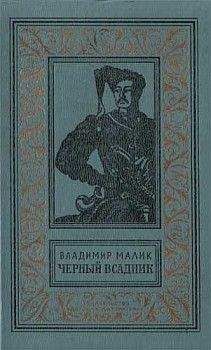— А если понял, то скажи, куда направлялся твой отряд с обозом раненых и больных из-под Чигирина? Почему вы шли не на Аджидер, а повернули к Днепру?
Турок метнул испуганный взгляд на Серко и атаманов, строго смотревших на него.
— Такой был приказ великого визиря, паша, — пробормотал он.
— Какой приказ?
— Мы должны были добраться до Днепра и там ждать нашу флотилию…
— Ну?
— Она доставит съестные припасы и порох для войска великого визиря, паша. А мы должны были, передав раненых и больных, забрать весь груз и везти под Чигирин.
— Раньше вы ездили к Аджидеру или к Очакову.
— Да. Но туда вдвое дальше…
— Значит, Кара-Мустафа ощущает недостачу в припасах, если торопится получить их?
— Ощущает, паша. Войска много — припасов мало… Рассчитывали найти на Украине, но в прошлом году Ибрагим-паша так разорил край, что нам теперь ничего не осталось.
— Сам поживился, как собака палкой, и своего преемника, значит, под монастырь подвел! — мрачно улыбнулся кошевой. — Сколько же кораблей должно прибыть?
— Не знаю, паша… Но судя по тому, сколько возов с нами отправили, должно быть много.
— Ну что ж, снова будет работа… Турки прутся на Украину, как грешные души в ад.
— Однако ж, батько кошевой, мне позарез надо быть в Чигирине! — воскликнул Арсен.
— Знаю. Слышал. Похвально, что так радеешь о товарище. Но здесь ты нужен не меньше. А может, и больше!
Это был приказ, и Звенягора ничего не мог поделать.
— Уведите агу! — распорядился Серко. — Похоже, он сказал правду… Приготовьте все к новому походу: на чайках пополнить запаек ядер, пороха, сухарей, саламахи[132]. На заре выступаем.
8
— Друже, гляди — плывут! — выкрикнул Секач, сидя на толстом суку старой ветвистой вербы, высоко поднимавшейся над другими деревьями.
Товкач сощурился от солнца.
— Что-то я не вижу… Ты, часом, не брешешь?
— Ей-богу, плывут!.. Да куда ты смотришь?.. Вон, против Краснякова выплывают. Поворачивают, сдается, в устье Корабельной… Да сколько их, матушки!
Теперь уже и Товкач заметил турецкую флотилию.
На широком, сверкающем против солнца плесе Днепра появлялись из-за поворота корабли. Один, два, три… пять… десять… двадцать… пятьдесят… Товкач сбился со счета.
— Это они! Не будем мешкать! Бежим скорее к кошевому! — выкрикнул Секач, быстро спускаясь вниз.
Выслушав дозорных. Серко надел на саблю шапку и поднял ее. Это был условный знак. В гот же миг десятки чаек вынырнули из камышей, из-за кустов чернотала и быстро помчались наперехват турецким кораблям. Как быстрокрылые птицы, летели они по спокойным водам Корабельной, со всех сторон окружая вражескую флотилию.
— С богом, братья-молодцы! — прогремел голос Серко. — Палите из гакивниц! Стреляйте из мушкетов! На приступ! Готовьте крюки! На приступ!
Над рекой раздались пушечные выстрелы. Запорожские гакивницы, укрепленные на носах кораблей, ударили картечью. Турки ответили ядрами. Пороховой дым заклубился над кораблями, над зелеными поймами.
Две подбитые чайки пошли на дно. Уцелевшие с них запорожцы барахтались в воде, сбрасывали с себя одежду и, фыркая, поворачивали к берегу.
Серко стоял на своей чайке, окидывая взглядом все устье Корабельной, где завязался бой. Турецкие корабли остановились, нарушили строй. На них заметались, закричали янычары, усиливая пушечный огонь.
— Кидайте огненные трубки! Ошарашьте песьи морды! — крикнул Серко, видя, что еще одна чайка перевернулась от попавшего в нее ядра и пошла на дно.
На каждой чайке было по две начиненных порохом трубки, изготовленных в мастерских Сечи. Это было великолепное изобретение запорожцев. С одной стороны трубку наглухо заклепывали, а с другой оставляли открытой. Сюда засыпали порох, вставляли пропитанный селитрой фитиль. Трубку заряжали в гакивницу вместо ядра. Небольшой заряд пороха выталкивал трубку из ствола пушки и одновременно поджигал фитиль. От фитиля загорался порох в самой трубке, мчал ее к цели, где она разрывалась со страшным грохотом и разбрасывала палящий огонь…
Услышав приказ кошевого, Звенигора вставил трубку в жерло пушки, насыпал в запал пороха и поднес факел. Огненная трубка прочертила в сизом дыму сражения яркий след и взорвалась в снастях головного вражеского корабля. Сноп огня ослепил глаза… Турки дико закричали и бросились тушить пожар.
Чайка скользнула боком о борт корабля.
— Кидай крюки! — крикнул Звенигора.
Вверх полетели тяжелые железные крючья с острыми лапами. Повисли крепкие веревочные лестницы. Над бортом блеснули кривые турецкие сабли. Некоторые из них успели перерубить две-три лестницы, но с чайки прогремел залп казацких мушкетов, и несколько янычар с криками бултыхнулись в воду.
— На приступ! На приступ!
Арсен ухватился за перекладину, подергал: крепко ли зацепился крюк за обшивку корабля? Крепко! Теперь саблю в зубы, пистолет в правую руку — и быстро полез вверх. Перекинул ногу через борт… На него налетел янычар, занес саблю над головой. Арсен выстрелил в упор. Турок без крика свалился навзничь. Арсен перешагнул через него и саблей отбил нападение приземистого толстого турка.
А за ним уже взбирались Метелица, Спыхальский, Секач, Пивень. На палубе завязался короткий, но жестокий бой. Замолкли пистолеты и мушкеты. Рубились саблями и ятаганами.
— Бейте их, иродов, хлопцы! — гремел Метелица, перекрывая своим могучим голосом шум и крики. — Не щадите проклятых! Они нашего брата не милуют!
Его сабля не знала усталости. Вместе с Секачом и Товкачом он теснил янычар к корме и там сбрасывал в воду. Возле него вертелся Шевчик, жаля, как шершень, тех, кто увертывался от ударов Метелицы.
Арсен дрался молча. Зато Спыхальский, идя рядом, не умолкал.
— А, холера ясна, получай гостинец от меня, басурман! — приговаривал он, опуская на голову янычара длинную саблю. — Згинь до дзябла!
Его зычный голос, как и голос Метелицы, наводил ужас на врагов.
— Налетай, проше пана! — гремел он на всю палубу. — Попотчую полной чаркой!
— Пан Мартын, — крикнул Звенигора, — смотри, что за птица перед нами! Сам паша! Надо живым взять!
В толпе янычар, отбивающихся от казаков, выделялась белоснежная чалма паши.
— А, гром на его голову! — загудел Спыхальский. — Вот это, проше пана, встреча! — И крикнул через головы турок: — Эй, паша, сдавайся!
Высокий, худой паша поднял глаза, зловещая улыбка легла на его сухое коричневое лицо. Седая козлиная борода задрожала, словно ее кто дергал снизу.
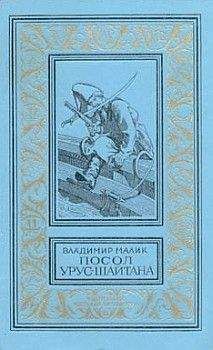
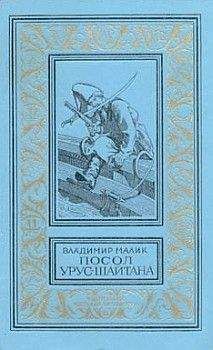
![Владимир Малик - Посол Урус-Шайтана [Невольник]](https://cdn.my-library.info/books/10079/10079.jpg)