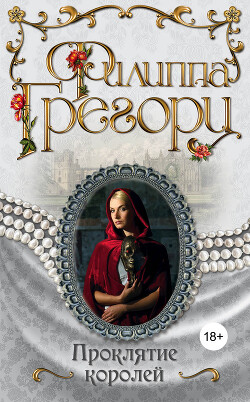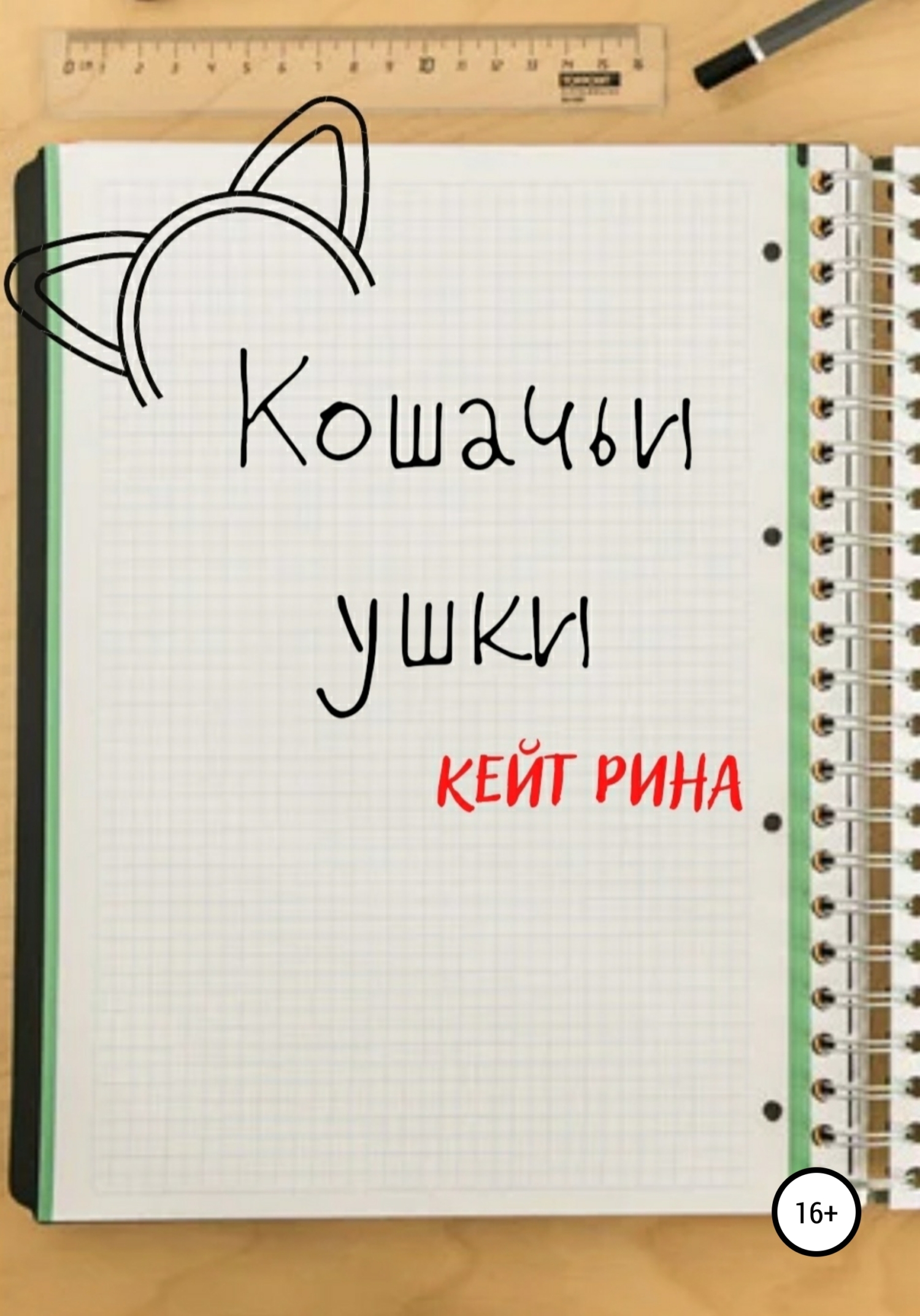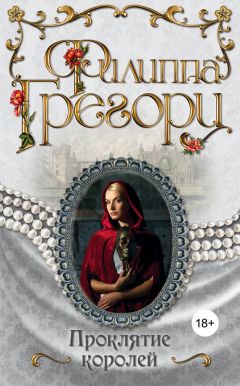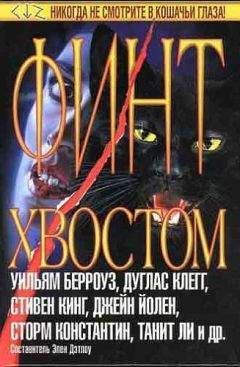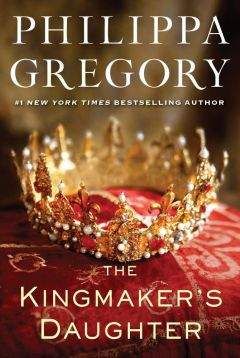Все лето я жду, когда мне скажут, что король вышел из меланхолии, всю осень, а потом, когда снова начинает холодать, я думаю, что король, возможно, помилует и освободит нас в новом году, после Рождества, в честь праздника; но этого не происходит.
Тауэр, Лондон, весна 1541 года
Король собирается повезти свою избранницу, которую зовет «розой без шипов», в большое путешествие на север, в поездку, на которую не отваживался раньше, показаться северянам и принять их извинения за Благодатное паломничество. Он остановится у тех, кто недавно построил себе дома из камня снесенных монастырей, поедет по землям, где до сих пор гремят в цепях на придорожных виселицах кости изменников. Он беспечно будет ходить среди людей, чья жизнь кончилась, когда разрушили их церковь, чья вера лишена дома, а сами они лишены надежды. Он облачит свое огромное жирное тело в линкольнский зеленый и прикинется Робином Гудом, а дитя, на котором женился, заставить танцевать в зеленом, как Деву Марианну.
Я все еще надеюсь. Я надеюсь, как надеялся когда-то мой умерший кузен Генри Куртене, что будут лучшие времена и мир станет повеселее. Возможно, король отпустит Гарри, Эдварда и меня до того, как отправится на север, в знак милосердия и прощения. Если он может простить Йорк, город Плантагенетов, открывший ворота паломникам, он точно может простить двух невинных мальчиков.
Я просыпаюсь в эти ясные утра на рассвете и слышу, как за моим окном поют птицы, и вижу, как медленно ползет по стене солнечный свет. Томас Филипс, смотритель, к моему удивлению, стучит в дверь и, когда я встаю и накидываю халат поверх ночной рубашки, входит; вид у него такой, словно ему нехорошо.
– Что случилось? – тут же встревожившись, спрашиваю я. – Мой внук заболел?
– Он здоров, здоров, – поспешно отвечает Томас.
– Эдвард?
– Он здоров.
– Тогда что случилось, мистер Филипс, отчего вы в таком смятении? Что такое?
– Мне горестно, – вот и все, что он может вымолвить.
Он отворачивается, качает головой и прочищает горло. Что-то так его печалит, что он едва может говорить.
– Мне горестно говорить вам, что вас казнят.
– Меня?
Этого не может быть. Казни Анны Болейн предшествовал суд, на котором пэров убедили, что она была ведьмой и прелюбодейкой. Знатную женщину, члена королевской семьи, нельзя казнить без обвинения и без суда.
– Да.
Я подхожу к низкому окну, которое выходит на лужайку, и выглядываю наружу.
– Быть этого не может, – говорю я. – Не может быть.
Филипс снова прочищает горло.
– Есть приказ.
– Эшафота нет, – просто говорю я, указывая на Тауэрский луг за стеной. – Нет эшафота.
– Принесут плаху, – говорит он. – Поставят на траву.
Я поворачиваюсь и смотрю на него.
– Плаху? Поставят на траву плаху и тайно меня казнят?
Он кивает.
– Не было ни обвинения, ни суда. Нет эшафота. Человек, который меня обвинил, сам казнен по обвинению в измене. Этого не может быть.
– Может, – отвечает Томас. – Умоляю, подготовьте свою душу, Ваша Милость.
– Когда? – спрашиваю я.
Я думаю, что он скажет «послезавтра» или «в конце недели».
Он говорит:
– В семь. Через полтора часа, – и выходит из комнаты, опустив голову.
Я не могу уложить в голове, что мне осталось жить полтора часа. Приходит капеллан, выслушивает мою исповедь, я умоляю его сейчас же пойти к мальчикам и передать им мое благословение и любовь, пусть скажет, чтобы не подходили к окнам, из которых видно лужайку и плаху. Собралось несколько человек; я вижу цепь лорд-мэра Лондона, но сейчас раннее утро, и все это неожиданно, так что сказать успели немногим и пришли немногие.
Так еще хуже, думаю я. Король, должно быть, принял решение из прихоти, возможно, только вчера вечером, а приказ, наверное, отправили сегодня утром. И никто его не отговорил. Из всей моей бесчисленной плодовитой семьи не осталось никого, кто мог бы его отговорить.
Я пытаюсь молиться, но мой ум мечется, как жеребенок на весеннем лугу. В завещании я распорядилась, чтобы мои долги выплатили и молились за мою душу, а похоронить себя завещала в своем старом приорате. Но я сомневаюсь, что кто-то позаботится о том, чтобы мое тело, – я внезапно с удивлением вспоминаю, что голова моя будет в корзине, – повезли в мою старую часовню. Так что, вероятно, я буду лежать в часовне Тауэра, рядом с моим сыном Монтегю. Это дает мне утешение, пока я не вспоминаю о его сыне, своем внуке Гарри, и думаю о том, кто станет о нем заботиться, отпустят ли его когда-нибудь или он умрет здесь и еще одного мальчика Плантагенетов похоронят в Тауэре.
Я думаю обо всем этом, пока моя дама меня одевает, накидывает мне на плечи новый плащ и подвязывает волосы под чепцом, чтобы открыть шею для топора.
– Это неправильно, – раздраженно произношу я, словно платье зашнуровано неверно, и она падает на колени и плачет, промокая глаза подолом моего платья.
– Это грешно! – выкрикивает она.
– Тише, – произношу я.
Меня не трогает ее печаль, я не могу ее понять. Я словно в тумане, будто не понимаю, ни что мне говорят, ни что сейчас случится.
У дверей ждут священник и стражник. Все происходит как-то очень быстро, я боюсь, что не готова. Я думаю, что, конечно, может статься и так, что я дойду только до лужайки и придет королевское помилование. Это было бы вполне в русле его представлений о величии: приговорить женщину к смерти после обеда и помиловать перед завтраком, чтобы все говорили о его власти и милосердии.
Я бреду вниз по лестнице, меня поддерживает под руку моя дама – не только потому, что ноги у меня плохо гнутся и я отвыкла от ходьбы, но и потому, что я хочу дать побольше времени королевскому гонцу со свитком, лентой и печатью. Но когда мы доходим до двери Тауэра, никого нет, только горстка людей у прямой мощеной дорожки, а в конце ее стоит деревянная колода и рядом – юноша в черном капюшоне, с топором в руке.
Руку мне холодят монетки, которые я должна ему заплатить, передо мной идет капеллан, мы проходим весь недлинный путь до плахи. Я не смотрю на башню Бошан, боясь увидеть, что внук меня не послушался и смотрит из окна комнаты Эдварда. Я понимаю, что не смогу передвигать ноги, если увижу их личики, глядящие на то, как я иду к смерти.
От реки долетает порыв ветра, и знамена внезапно начинают полоскаться. Я глубоко вдыхаю и думаю о тех, кто вышел из Тауэра до меня, о том, что они, без сомнения, отправились на небеса. Я думаю о своем брате, идущем к Тауэрскому холму, чувствующем капли дождя на лице и мокрую траву под сапогами. Мой младший брат, за которым, как и за моим внуком, не было иной вины, кроме имени. Никто из нас не был заключен в тюрьму за то, что мы сделали; нас заточили за то, кто мы, и это ничто не изменит.
Мы подходим к палачу, хотя я едва заметила пройденный путь. Я жалею, что мало заботилась о своей душе и не молилась, пока шла. Мысли мои бессвязны, я не завершила молитву, я не готова к смерти. Я кладу два пенни в руку в черной рукавице. Глаза палача поблескивают сквозь прорезь в маске. Я замечаю, что его рука дрожит, он сует монетки в карман и крепко берется за топор.
Я стою перед ним и произношу слова, которые должен произнести каждый приговоренный. Говорю о своей верности королю и велю ему повиноваться. Тут мне хочется рассмеяться во весь голос. Как можно повиноваться королю, чьи желания меняются каждый миг? Как можно быть верным безумцу? Я передаю благословение и добрые пожелания маленькому принцу Эдуарду, хотя сомневаюсь, что он доживет до того, чтобы стать мужчиной, бедный, бедный проклятый мальчик Тюдор, я шлю благословение и свою любовь принцессе Марии, я помню, что ее нужно называть леди Мария, и говорю, что надеюсь, что и она меня благословляет, меня, так нежно ее любившую.
– Довольно, – прерывает меня Филипс. – Простите, Ваша Милость. Вам не позволена длинная речь.
Палач делает шаг вперед и говорит: