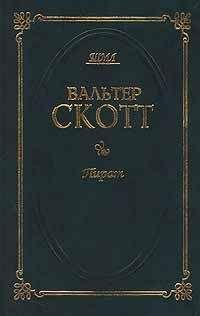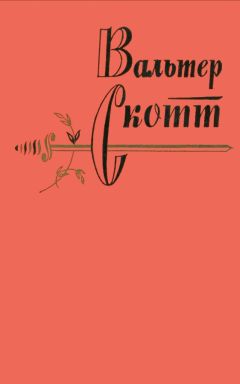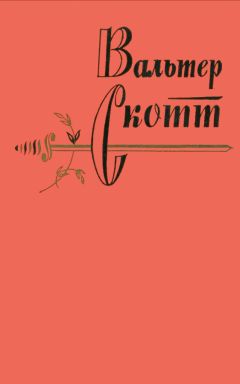Тем временем, примерно через год после рождения Триптолемуса, миссис Йеллоули разрешилась от бремени девочкой. Ее назвали в честь матери Барбарой, и с самого младенчества у нее уже обнаружились узкий и длинный нос и тонкие губы, которыми семейство Клинкскейлов отличалось от всех других обитателей Мирнса. По мере того как девочка подрастала, жадность, с какой она хватала игрушки Триптолемуса, и упорство, с каким не желала расставаться с ними, вместе со склонностью кусаться, щипаться и царапаться по самому малому поводу или даже без всякого повода, заставили внимательных наблюдателей единодушно признать, что мисс Бэйби «ну прямо вылитая мать». Злые языки не стеснялись даже утверждать, что жадность клинкскейлского рода не была в данном случае ни смягчена, ни разбавлена кровью Веселой Англии. Молодой Дейлбеликит бывал в те дни весьма частым гостем миссис Йеллоули, и не могло не казаться в высшей степени странным, что хозяйка, которая, как всем было прекрасно известно, никогда ничего не давала даром, тут с необычной щедростью наполняла тарелку и наливала до краев кружку такому бездельнику и шалопаю. Впрочем, достаточно было хоть раз увидеть суровые и строго добродетельные черты миссис Йеллоули, чтобы сразу оценить по достоинству и ее необычное поведение и изысканный вкус Дейлбеликита.
Тем временем юный Триптолемус успел усвоить те начатки школьной премудрости, какие смог преподать ему местный священник, ибо хотя госпожа Йеллоули примыкала к остаткам гонимого пресвитерианства, но ее жизнерадостный муж, воспитанный среди черных ряс и молитвенников, принадлежал к установленной законом церкви. Когда настало для того время, Триптолемуса послали в колледж Сент-Эндрюса для дальнейшего образования. Отправиться-то он туда отправился, но одним глазком все оглядывался назад — на отцовский плуг, отцовские оладьи и отцовский эль, весьма жалким заменителем которого было слабое пиво, подаваемое в колледже и прозванное там «мочегоном». Мальчик, правда, делал некоторые успехи, но вскорости обнаружилось, что он питает особую склонность к тем античным авторам, чьи произведения трактуют главным образом об усовершенствованиях в сельском хозяйстве. Он терпеливо изучал «Буколики» Вергилия, знал наизусть «Георгики», но «Энеиду» совершенно не выносил; особенно возмущался он знаменитой строчкой о несущейся коннице, ибо, согласно его пониманию слова putrem, получалось, что всадники в пылу атаки мчались прямо по свежеунавоженному полю. Катон, римский цензор, был его любимым античным героем и философом, но не за то, что проповедовал строгость нравов, а за сочинение «De re rustica». Привычной поговоркой юного Триптолемуса стала фраза Цицерона: «Jam neminem antepones Catoni». Ему нравились Палладий и Теренций Варрон, а томик сочинений Колумеллы был его постоянным спутником.
Кроме этих древних знаменитостей, юноша уважал и более современных авторов — Тассера, Хартлиба и других, писавших о сельском хозяйстве, не оставлял он без внимания и разглагольствований «Пастуха Солсберийской долины» и более осведомленных филоматов, которые, вместо того чтобы загромождать свои альманахи пустыми пророчествами политических событий, ограничивались предсказаниями, какие посевы удадутся, а какие — нет, явно стремясь привлечь внимание читателя к тем культурам, хороший урожай которых можно было предсказать почти с полной уверенностью. Одним словом, эти скромные мудрецы, не заботясь о возвышении или падении империй, довольствовались тем, что указывали подходящее время для жатвы и посева, стараясь угадать, какую погоду вернее всего следует ожидать в каждом месяце: так, например, если будет угодно небу, то в январе пойдет снег, а июль-август ручается своим добрым именем — в целом окажется солнечным. Хотя ректор колледжа святого Леонарда был, в общем, весьма доволен своим спокойным, трудолюбивым и прилежным воспитанником Триптолемусом Йеллоули и считал его, во всяком случае, вполне достойным имени из четырех слогов, да еще с латинским окончанием, однако он далеко не одобрял столь исключительного пристрастия Триптолемуса к его любимым авторам. «Постоянно думать о земле, — говорил он, — все равно — удобренной или неудобренной, — это слишком уж пахнет черноземом, если не чем-нибудь еще того хуже». Тщетно побуждал ректор своего ученика заняться более возвышенными предметами — историей, поэзией или богословием — Триптолемус Йеллоули упорно придерживался своей собственной линии поведения. Читая о битве при Фарсале, он не думал о том, что исход ее угрожал свободе тогдашнего мира, а соображал, какой, должно быть, хороший урожай дали эматийские поля на следующий год.
Что касается отечественной поэзии, то Триптолемуса с трудом можно было уговорить прочесть хоть одно английское двустишие; единственное исключение делал он, как мы уже говорили, для старика Тассера, чьи «Сто добрых советов по сельскому хозяйству» он выучил наизусть. Исключение сделал он также для «Видения Петра-пахаря». Прельстясь заглавием, Триптолемус поспешил купить книжку у коробейника, но, прочитав первые две страницы, бросил ее в огонь, как бесстыдный и обманчиво озаглавленный политический пасквиль. Столь же решительно покончил Триптолемус и с богословием, напомнив своим наставникам, что возделывать землю и добывать хлеб трудами рук своих и в поте лица своего — участь, назначенная человеку после грехопадения, и что сам он будет прилагать все усилия для выполнения работы, столь необходимой для существования, предоставив другим разрешать сколько душе угодно более глубокие вопросы теологии.
Столь узкий круг интересов Триптолемуса, ограниченный пределами одной только сельской жизни, внушал сомнения, принесут ли его успехи в науках и то, как он пожелает применить их на деле, должное удовлетворение честолюбивым надеждам его любящей маменьки. Он, правда, был не против того, чтобы стать служителем церкви: это вполне подошло бы к свойственной ему некоторой душевной лени, которая часто сопутствует склонности к отвлеченным размышлениям. Он питал надежду — хорошо, если бы таковы были только его личные намерения, — шесть дней в неделю возделывать землю, а в седьмой, как положено, произнести проповедь, затем пообедать в обществе какого-нибудь дородного землевладельца средней руки или сельского лэрда, а после обеда выкурить с ним трубочку и распить кружку, ведя задушевную беседу все на одну и ту же неистощимую тему: quid faciat laetes segetes.
Впрочем, для проведения в жизнь подобного плана, кроме того, что в основе его не лежало, как говорили тогда, «прочного корня», необходимо было иметь пасторский дом с клочком земли, а получить его можно было, только признав епископальную церковь и совершив ряд других, чудовищных по представлениям того времени, уступок. Неизвестно еще, смогли ли бы дом, усадьба при нем и содержание как деньгами, так и натурой преодолеть приверженность почтенной леди к пресвитерианству, но усердию ее не суждено было подвергнуться столь тяжкому испытанию: она умерла, прежде чем сын ее закончил образование, и оставила огорченного супруга ровно настолько неутешным, насколько и следовало ожидать. Первым же действием единоличного управления Джаспера было взять сына из колледжа Сент-Эндрюса, чтобы использовать его как помощника в сельскохозяйственных работах. Вот тут-то, казалось, и должен был Триптолемус Йеллоули, призванный наконец применить на практике все то, что он с таким рвением изучал теоретически, возрадоваться, если употребить сравнение, которое он сам нашел бы весьма удачным, как корова, дорвавшаяся до клевера. Но увы! Сколь неверны предположения и обманчивы надежды человечества!