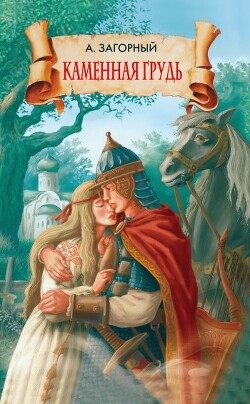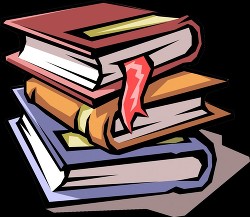ДУНАЙСКАЯ БИТВА
В устье Дуная русские суда вошли незамеченными. После Хортицы, где принесли жертвы богам, останавливались только у острова Березань, чтобы передохнуть, оснаститься и принять от зажитников [25] необходимые запасы питьевой воды и продовольствия. Добрый десяток крепких насадов – смоляных высокобортных кораблей – пришел из Олешья – из этого упрятанного в камышах, мирного с виду городка на Перебойне, ведавшего, однако, всеми морскими походами и набегами на Корсунскую страну, византийские берега и даже острова Средиземного моря.
На Березань же вернулись послы из Болгарии, привезшие от царя вторичный отказ объединиться с руссами. «Познавшие истинного бога не соединятся с язычниками, как огонь не соединится с водой. Да не взрастут плевелы идолопоклонства на христианской ниве…»
– Мы сделали все, чтобы предотвратить пролитие братской крови. Но коли царя слова не убеждают, убедим мечом, – сказал на это великий князь.
Погрузились, по бортам развесили щиты, что придало ладьям воинственный вид, взбили паруса и поплыли дальше. Раздвинулись родные берега, легко пенясь волной, зарокотало Русское море. Со всех сторон глянула просвечиваемая солнцем зеленая пучина… Плыли подальше от берегов, так как вблизи Селины болгары держали морскую стражу. На десятый день вошли наконец в северный рукав обширной дельты Дуная. Но беспрепятственно высадиться не удалось, – пока, преодолевая течение, миновали дельту, царь Петр Кроткий загородил правобережье своим сорокатысячным войском.
Караван русских судов, держась середины реки, медленно поднимался вверх. Болгарские полки, еще не отдышавшиеся от неожиданного и продолжительного марша, сбиваясь, путая ряды, следовали по берегу и то громко бранились, то умолкали, следя за продвижением противника.
Угнув голову так, чтобы тень от козырька шелома падала на глаза, Святослав высматривал место для высадки. Берег низкий, заливной, густо поросший камышом и красноталом, тянулся угнетающе однообразно. Только в полуверсте от него маячили курганы древнего могильника, словно высокие киевские шапки зеленого бархата. За ними на возвышенности в жирной зелени виноградников белел городок с христианским храмом – маленькой, приземистой церквушкой. Городок окружал деревянный частокол – будто пояс сползал с округлого купеческого живота. Пылилась прямая дорога на Переяславец.
– Не пора ли, князь? – нетерпеливо повернулся Волдута. – Ужо высадимся, не дадим им опомниться.
– Повременим… осока! Запутаемся в ней, – отвечал Святослав, не отрывая взгляда от берега, – поднимемся выше. Гляди, вон там будто бы голо… песок!
Он положил руку на плечо Волдуты:
– Передай воеводе Волку: когда войско начнет высаживаться, ему со всей тысячей повернуть ладьи и спуститься до тех камышей, где вербы, видишь? Пусть пройдет сквозь камыши, выходит на дорогу и ударит болгарам в спину. Пусть стремительно пройдет, как камень сквозь мошкару.
Святослав помолчал, наблюдая за тем, как разводятся неприятельские полки, снял шлем, отер рукою пот со лба.
– Передать по ладьям: постепенно приближаться к берегу до одного перестрела. Хода не сбавлять. По моему знаку подтянуться – нос к корме… левые борты гребут! Разворот! Правые подхватывают… и во весь дух… Это будет начало. Второй бросок потруднее. Надо смять передних болгар и вскочить на яр. Первому ряду высаживаться с ладей, подняв топоры и укрываясь щитами! Всем задним взять копья наперевес. Назад ни шагу. Лучше повиснуть на копье, чем утонуть в Дунае. Не будут русалки забавляться трупами воев… Дружина нацелится на царский стяг – видишь зеленое полотнище… ударит в него, выйдет на дорогу и соединится с воеводой Волком.
По беспомощно повисшим парусам прокатывался слабый ветерок; лениво взмахивали, ослепительно сверкая на солнце, ряды измочаленных весел, кричали белогрудые чайки.
Сосед Доброгаста, широколицый, веснушчатый, даже в зеленых глазах рыжинки, откинулся с веслом:
– Чего-то робеет князь… медлит… такое дело затеяно, а он медлит.
– Болгар-то побольше. Гляди, как мордуются, – добавил второй отрок, худой, высокий, с тараканьими усами на детском лице, – побьют нас камнями, как лягушек.
– Будет вам! Чего раскаркались! – остановил их сивоусый Идар.
– Берег топкий… завязнем!
– Не завязнем, мы полегче болгар… недаром князь приказал в секирах дыры пробить… он смекалистый, наш князь…
– Теперь на секирах хоть сыр отжимай, – обронил кто-то шутливо, и окружающие засмеялись.
– Городок похож на наш, – обратился к Доброгасту сосед, – избы, частоколы, собаки брешут.
– Наш город и есть, – отозвался Идар, – по всему низовью Дуная русские города, еще при князе Кие воздвигнуты и даже раньше, когда мы здесь греков били!
– А люди? – заинтересовался Доброгаст; ему было немного не по себе, хотелось почерпнуть от товарищей то удивительное спокойствие, которое сквозило в каждом их движении, отражалось на каждом лице.
– И люди наши… русские здесь живут. Вот, бычья жила, поди, ликуют – земляки плывут… – ответил сивоусый.
– А какая земля! Какие сады выбузовали, какое обилье по склону, – восторженно проговорил сосед Доброгаста, налегая на весло.
Гребцы продолжали переговариваться, будто совсем не замечали противника.
В передних рядах болгарского войска шли, выставив массивные копья, воины в черных доспехах с оленьими рогами на шлемах; за ними – в чешуйчатых панцирях, со свисающими от бедер кожаными лентами. Воины недовольно хмурились, поругивались и никак не могли отдышаться. Развевая по ветру пышное оперение шлемов, носились военачальники – протостраторы. Чернели щиты, тряпками свисали шелковые стяги, высовывались полковые значки – львы, орлы, серебряные ключи. От начищенной брони шел жар, ослеплял.
Царь Петр, высокий, отощавший в вечных заботах (а их было много: то ссоры с синклитом, то покушения, то богомильские ереси, то разбойники на всех дорогах, то последняя война с греками), едва держался в седле. Его лихорадило. Растерянно отдавал приказания, тут же их отменял, отдавал новые. Свита наседала – одни советовали запереться в городе, другие возражали, говорили, что войску не прокормиться в таком маленьком городке и десяти дней, третьи настаивали на том, чтобы не принимать битвы, отойти и просить помощи у угров. [26] Петр не отвечал, густо нарумяненные щеки его скрывали смертельную бледность. Он выделялся среди прочих своим позолоченным шлемом и черной бисерной мантией, покрывавшей конский круп, – смешной, жалкий.
Отражение полков в дунайских водах ломалось, трепетало…
В руках Белобрада быстро двигалось костяное писало. Острие его выдавливало на листах бересты слова приказов Святослава. Сотский привязывал к бересте пучки сухой травы и бросал в воду. Береста подхватывалась течением, ее вылавливали, прочитывали, сплавляли дальше.
– Здесь, – коротко бросил Святослав Волдуте, – если сядем на песок… смотри!
– Не сядем, княже, эвона где Дунай поворачивает, – протянул мореход руку в боевой перчатке, – сильная струя бьет… все яр, а песок у самого хвоста. Две-три ладьи не дойдут поначалу. А что же Свенельд? Куда он запропастился со своею дружиной?
У Святослава даже жилы надулись на шее.
– Варяжская дрянь! Верно грабежом занимается где-нибудь на побережье… потрошит бродников… [27]
Он встал на носу у турьих рогов, надел шелом и помахал флажком на копье:
– Поворачивай!
«Ну, вот и начало», – подумал Доброгаст, занося тяжелое весло.
– Ломите уключины, дети, шибче налегайте на весла!
Княжеский конь в ладье громко заржал и навострил уши.
Прыснули первые стрелы; защитились дублеными кожами. Мелькнула чайка, перепуганный гоголь погрузился в воду, только черная голова торчала.
Святослав обратился к войску: