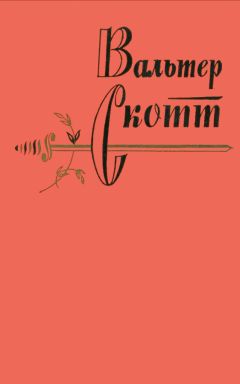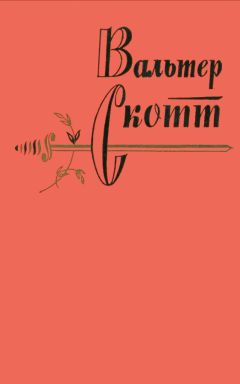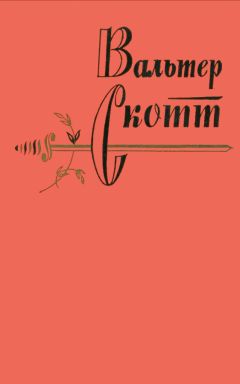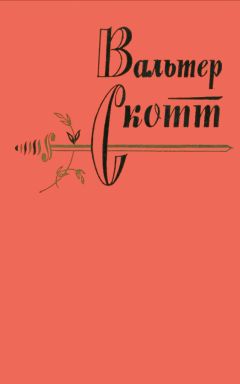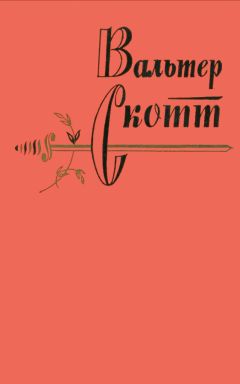— Больше почти нечего рассказывать. Остается только прибавить, что, желая избавить мою бедную мать от всякой ответственности за меня, я поступил в монастырь, надел рясу послушника и подчинился всем монастырским правилам. Тут-то я и научился грамоте.
— Грамоте! — воскликнул с изумлением Меченый, которому всякие знания, превышавшие его собственные, казались чем-то сверхъестественным. — Значит, ты умеешь читать и писать? Это просто невероятно! Никто из Дорвардов, да и из Лесли, сколько я знаю, не умел подписать свое имя. По крайней мере за одного из Лесли я могу поручиться: для меня так же немыслимо писать, как летать. Но, клянусь святым Людовиком, как же они умудрились тебя научить?
— Сначала, правда, было трудненько, ну а потом пошло легче. К тому же я так ослабел от ран и от потери крови, что ни на какое другое дело не был годен, да и хотелось мне угодить отцу Петру, моему избавителю. Тем временем, протосковав несколько месяцев, умерла моя бедная мать. И как только здоровье мое окончательно поправилось, я заявил моему покровителю отцу Петру — он был у нас помощником настоятеля, — что я не в силах стать монахом. Мы порешили, что, раз я не могу оставаться в монастыре, я должен уйти и поискать себе счастья в другом месте. Чтобы не навлечь на моего покровителя гнева Огилви, надо было придать моему уходу из монастыря вид побега, а чтобы мое бегство показалось правдоподобным, я унес с собой сокола нашего аббата. На самом же деле я покинул монастырь с его разрешения; у меня есть даже свидетельство за его подписью и печатью.
— Это хорошо, это очень хорошо, — сказал Лесли. — Наш король смотрит сквозь пальцы на всевозможные проделки, но уж беглых монахов, можно сказать, не выносит. Ну, а как твой карман, племянник? Бьюсь об заклад, что он не слишком-то обременял тебя в пути.
— Я буду откровенен с вами, дядя, — сказал Дорвард. — Горсть мелкого серебра — вот все мое богатство.
— Это плохо, приятель! Я не люблю и не умею копить, да и к чему это по нынешним тревожным временам? Однако у меня всегда найдется в запасе какая-нибудь безделушка — не цепь, так браслет, не браслет, так ожерелье, — которую я ношу при себе и в случае надобности всегда могу пустить в оборот целиком или по частям. И тебе я советую следовать моему примеру. Может быть, ты меня спросишь, племянник, откуда я беру эти вещицы? — сказал Людовик Меченый, с самодовольным видом потряхивая своей золотой цепью. — Они, конечно, не растут на кустах или в поле, как златоцвет, из которого ребятишки делают себе ожерелья. Но что за беда! Ты можешь добывать их там же, где и я, — на службе у доброго короля французского. Вот где легко набрать много всякого добра, лишь бы хватило храбрости рисковать жизнью и не отступать перед опасностью!
— Я слышал, однако… — сказал Дорвард, уклоняясь от прямого ответа, ибо он не принял еще окончательного решения, — я слышал, что двор герцога Бургундского гораздо пышней и богаче французского двора и что служить под знаменами герцога гораздо почетней: бургундцы — мастера драться, и у них есть чему поучиться, не то что у вашего христианнейшего короля, который все победы одерживает языками своих послов.
— Ты рассуждаешь как легкомысленный мальчишка, милый племянник. Впрочем, я и сам, помнится, был так же прост, когда попал сюда в первый раз. Я представлял себе короля — не иначе, как сидящим под балдахином с золотой короной на голове и пирующим со своими рыцарями и вассалами или скачущим во главе войска, как поют в романсах о Карле Великом или как Роберт Брюс либо Уильям Уоллес в наших правдивых историях Барбора и Минстрела. Я воображал, что короли не едят ничего, кроме бланманже… А хочешь, я тебе шепну на ушко: все это бредни, лунный свет на воде… Политика, братец, политика — вот в чем сила! Ты, может быть, спросишь меня, что такое политика? Это искусство, которое создал французский король, искусство сражаться чужим оружием и черпать деньги для уплаты своим войскам из чужого кармана. Да, это мудрейший из всех государей, когда-либо носивших пурпур, хоть он никогда его не носит и часто одевается проще, чем это подобает даже мне.
— Но это не ответ на мой вопрос, дядюшка, — заметил Дорвард. — Понятно, что, если уж я вынужден служить на чужой стороне, мне хотелось бы устроиться на такую службу, где я мог бы при случае отличиться и прославить свое имя.
— Я понимаю тебя, прекрасно понимаю, племянник, только ты-то сам мало еще смыслишь в этих делах. Герцог Бургундский — смельчак, человек горячий и вспыльчивый, отчаянная голова, что и говорить! Во всех схватках он всегда первый, всегда во главе своих рыцарей и вассалов из Артуа и Эно; но неужели ты думаешь, что, служа у него, ты или я могли бы выдвинуться перед герцогом и его храбрым дворянством? Отстань мы от них хоть на шаг, нас, не задумываясь, обвинили бы в нерадивости и предали бы в руки главного прево, держись мы наравне с ними — это нашли бы только правильным и самое большее сказали бы, что мы честно зарабатываем свой хлеб; а если допустить, что нам удалось бы опередить других хотя бы на длину копья — что и трудно и очень опасно в схватках, где каждый спасает свою жизнь, — что ж, светлейший герцог сказал бы, наверно, на своем фламандском наречии, как он всегда говорит, когда видит ловкий удар: «Gut getroffen![14] Молодчина шотландец! Дать ему флорин: пусть выпьет за наше здоровье!» — и больше ничего! Если ты чужестранец, ничего не жди на службе у герцога — ни высокого чина, ни земель, ни денег: все это достается только своим, только сынам родной земли.
— А кому же еще оно может достаться, дядюшка? — воскликнул Дорвард.
— Тем, кто защищает этих сынов! — ответил Меченый с гордостью, выпрямляя свой могучий стан. — Король Людовик рассуждает так: «Ты, простофиля Жак, добрый мой крестьянин, знай свое дело — свой плуг, свою борону, свою кирку или лопату, — а мои храбрые шотландцы будут сражаться за тебя. Твоя забота — заплатить за их труд из своего кармана, и только… А вы, мои светлейшие герцоги, благородные графы и могущественные маркизы, умерьте вашу храбрость, пока в ней нет нужды, потому что она может завести вас на ложный путь и повредить вашему государю. Вот мои наемные войска, вот моя гвардия, вот мои шотландские стрелки и с ними мой честный Людовик Меченый; они будут сражаться не хуже, если не лучше вас со всей вашей своевольной отвагой, погубившей ваших отцов в сражениях при Креси и Азенкуре». Ну что, теперь тебе понятно, где лучше нашему брату, искателю счастья и славы, и где можно скорее рассчитывать на отличия и на высокие почести?
— Понятно-то понятно, дядюшка, — ответил Дорвард, — только, на мой взгляд, нельзя отличиться там, где нет опасности. И вы меня, пожалуйста, извините, но, по-моему, караулить старика, на которого никто не нападает, проводить летние дни и зимние ночи на стенах крепости, в железной клетке, да еще на запоре, чтоб ты не сбежал, — это жизнь для лентяев… Эх, дядя, ведь это все равно что быть соколом, которого держат на насесте и никогда не берут на охоту!