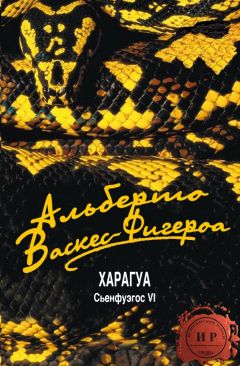С наступлением темноты он опустил паруса и положил корабль в дрейф.
И забылся беспокойным сном.
Проснувшись на заре, Сьенфуэгос с удивлением обнаружил, что вокруг одна вода и нигде не видно никаких признаков земли, лишь акула, такая же одинокая и всеми покинутая, как и он сам, составляла ему компанию.
Он долго размышлял над своим тяжелым положением и пришел к выводу, что ему как можно скорее необходима помощь, а потому зачерпнул ладонью немного воды, медленно выплеснул ее на голову и произнес громко и со всей серьезностью:
— «Крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого духа... Отныне и впредь нарекаю тебя именем Месиас, Месиас Сьенфуэгос».
Завершив эту простую церемонию, он задрал голову к небу и не без иронии добавил:
— Ну хорошо! Теперь я христианин... Посмотрим, что ты теперь станешь делать!
Потом он съел самый зрелый плод папайи, выбросил кожуру черепахам и игуанам, которых хранил живьем — они представляли собой единственные его запасы провизии — и снова поднял паруса, позволив мягкому ветерку (откуда он дул, Сьенфуэгос уже не знал) их наполнить и направить корабль незнамо куда.
Он бросил румпель, пустив корабль по воле волн, открыл прекрасную деревянную коробку и стал играть сам с собой в шахматы.
Без четкого курса и проблем он плыл пять спокойных и жарких дней, пока порывистый и раздраженный ветер, а также взбесившееся море не вынудили его оставить лишь фок. С этой минуты он беспрестанно боролся с беспорядочными волнами, казалось, набрасывающимися на корабль со всех сторон одновременно, словно два чудовища в пучине затеяли суровую битву.
Всю ночь он пытался держаться на плаву и совершенно выбился из сил, а новый день принес видение далекой земли — длинной и плоской полоски, о которую жестоко бились волны.
Он добрался.
Он не понимал куда, но добрался.
Сьенфуэгос позволил морю дотащить себя до побережья, каждую секунду рискуя опрокинуть лодку или напороться на скалу, бросив всякие попытки управлять кораблем — ведь он всегда знал, что кораблем управлять невозможно. Первым делом он намеревался спасти оружие и немногочисленные личные вещи, а также незаменимую шахматную доску, с которой теперь уже не мог расстаться.
К счастью, широкая и высокая волна подняла «Севилю» на свою вершину и благополучно перенесла через последний барьер рифов, опустив корабль на песок и расколов его при этом надвое, как свалившийся с высокой пальмы кокос.
Через несколько минут Сьенфуэгос уже сидел посреди огромного пляжа из крупного песка и созерцал останки своего единственного средства передвижения, на котором надеялся однажды вернуться на родину. Он спрашивал себя, то ли по какой-то случайности ветра и течения вернули его обратно на Гаити, откуда он ускользнул всего несколько месяцев назад, то ли, напротив, он очутился на земле, куда не ступала не только его нога, но и нога любого другого европейца.
— Да и пес с ним! — в конце концов прохрипел он, поскольку в последнее время приобрел привычку насвистывать и говорить с самим собой, пытаясь таким образом не сойти с ума. — Куда бы я ни попал, все равно везде одна хрень.
Он быстро нашел гладкую палку, тщательно наточил свою шпагу и в особенности тонкий кинжал, принадлежавший когда-то оружейнику Бенито, потому что если Сьенфуэгос и был в чем-то убежден, то только в том, что не допустит повторения прежних страданий, и, прежде чем попадет в лапы карибов, если и на этой земле живут каннибалы, дорого продаст свою жизнь, а потом покончит с ней, одним махом перерезав яремную вену.
Смерть была не самым худшим из того, что могло с ним приключиться.
Сьенфуэгос поел немного фруктов и выпил сладкий кокосовый сок, чтобы утолить жажду, бросил прощальный и благодарный взгляд на останки корабля — единственного предмета, связывающего его с прошлым и со своим миром, и тяжело поднялся на ноги с намерением углубиться в чащу.
Он долго мочился на первый попавшийся ствол и пробормотал себе под нос, чтобы взбодриться:
— Пойдем туда! Быть может, Сьенфуэгосу-христианину повезет чуть больше, чем Сьенфуэгосу-язычнику.
Он вошел в густые заросли, куда, казалось, не ступала нога человека, и с каждой минутой все больше запутывался, так что в конце концов перестал понимать, куда направляется, поскольку густой покров из ветвей, листьев и лиан над головой мешал рассмотреть солнце.
Под ногами был лишь ковер из полуразложившихся листьев, в который Сьенфуэгос проваливался по самые лодыжки, приходилось постоянно работать шпагой, чтобы расчистить путь через зеленый клубок ветвей, угрожающий превратиться в непроницаемую стену.
В ветвях деревьях кричали обезьяны, на вершинах крон громко верещали попугаи ара, но здесь, внизу, мир казался вымершим, и лишь комары да скользнувшее поблизости тело перепуганной змеи говорили о том, что в этом липком, душном воздухе все-таки возможна жизнь.
Ближе к вечеру пошел дождь, и шелест воды заглушил все прочие звуки, пейзаж же начал растворяться, как под кистью дрянного художника, и Сьенфуэгос внезапно почувствовал на душе груз гораздо больший, чем вес тяжелой шпаги, им овладела глубокая печаль, а сердце налилось свинцом. Он сел на бревно и уставился на свои исцарапанные руки, спрашивая себя, почему он вдруг лишился сил и не может сделать ни шагу, хотя ноги ничуть не ослабели.
Лишь по собственной воле он погрузился в зелень сельвы, пожирающей его сантиметр за сантиметром, потому что как он ни искал, канарец не мог найти ни единого мотива продолжать сражаться с бесконечными бедами и поражениями, кроме воспоминаний об Ингрид, да и те стали его подводить.
— Куда я иду?
Какой смысл продолжать борьбу с морем, горами, людьми или сельвой, если с каждой минутой становится всё очевиднее, что его единственное предназначение — бессмысленно сражаться.
Он полностью укутался в тени и сумрак, свернулся в позе зародыша, орошаемый теплым дождем, и понадеялся, что погрузится в глубокий сон и больше ему не придется двигаться дальше, потому что он знал — при пробуждении он не найдет ни единой причины, чтобы снова бороться с непроницаемыми и подавляющими джунглями.
Ему снились умершие товарищи, те храбрецы, спутники по изгнанию, что давно уже превратились в пищу для раков и паразитов. Сьенфуэгос видел их такими, какими они никогда не были: тихими и мирными, робкими и послушными, словно, перейдя последнюю границу, в чем ему, казалось, постоянно отказывали, они полностью изменились, даже характером.
Они не окликали Сьенфуэгоса и даже, похоже, не замечали его присутствия, возможно, понимая, что он находится очень далеко. Он вздрогнул, осознав, что покой, который несет с собой смерть, опять для него недоступен, его ждет еще бесконечное множество страданий по пути через сумрачную сельву, широкий океан и скалистые горы.