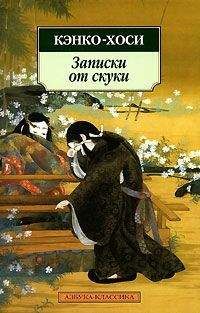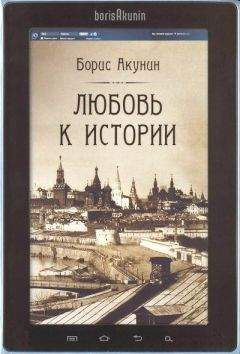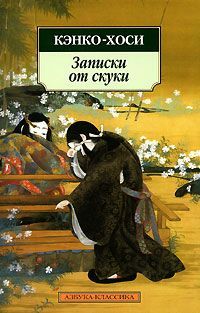и его очкам.
Мы все пришли в возбуждение, даже господин не справился с волнением.
– Это не просто след! – воскликнул он. – Это прямой выход на заказчика похищения картины! А от него мы выйдем и на Аспена с его «метростроевцами!» Эмма, вы феноменальная сыщица!
Я был того же мнения.
– А вы поезжайте в свое Толедо, кабальело, – картавя сказала Эмма в ответ на мои искренние восторги. Характер у нее, увы, был ужасный. Хотя «кабарьеро» по-испански значит «самурай», так что ничего особенно обидного в ее словах не было.
С этого момента в нашей маленькой команде без каких-либо споров или обсуждений произошло перераспределение ролей. Теперь стала распоряжаться Эмма. Эраст Петрович уступил ей первенство, я же и раньше на него не претендовал.
Рыжеволосая сыщица взялась за дело решительно, и все ее решения были здравыми.
Сначала она потребовала, чтобы госпожа Эрмин рассталась с собакой. Корделия протестовала, говорила, что теперь ни за что на свете не разлучится со своим драгоценным Лулу, но Эмма заявила: «За нами следят, и с вашей кудрявой собакой, на которую все будут пялиться, нам от слежки не оторваться». Мы с господином поддержали этот бесспорный аргумент, и рассыльный увез псину в Пасси, где богатая наследница после пожара на родительской вилле снимала апартаменты.
Столь же безжалостно Эмма запретила Корделии заехать домой за вещами, которые понадобятся в дороге (что мы все отправляемся в Марбург, даже не обсуждалось – это было очевидно). На квартире госпожу Эрмин могла подстерегать смертельная опасность, притом самого неожиданного свойства. Газовый светильник и собачья жилетка продемонстрировали, что убийцы чрезвычайно изобретательны.
Из отеля мы выбрались незаметно – через служебный ход. Деньги за проживание оставили на столе.
Перед тем, как вывести Корделию в темный переулок, мы с господином проверили, нет ли там чего-нибудь подозрительного, и не спускали глаз с окон напротив, держа оружие наготове.
Откуда-то Эмме было известно, что с Восточного вокзала ежедневно в полночь уходит франкфуртский поезд. (Ах да, она же говорила, что Париж входит в ее «зону» и поэтому она знает про город всё, что нужно знать.) Пока мы охраняли клиентку, сыщица взяла два купе первого класса.
Она хотела лично оберегать Корделию, а нас с господином поместить вместе. И тут произошла дискуссия, в которой наша новая руководительница впервые не смогла настоять на своем.
– Личный телохранитель должен хорошо владеть приемами рукопашного боя. Какому виду боевого искусства отдает предпочтение ваше агентство? – спросил Эраст Петрович.
– Вы про бокс и сават? Это тупые мужские забавы, – небрежно покривилась Эмма. – Мы в «Ларр инвестигейшнз» привыкли полагаться на интуицию, ум и современные технологии. В отличие от вас, мы живем уже в двадцатом веке.
– А что вы будете делать, если нападет профессиональный убийца?
– На этот случай у меня есть револьвер, и стреляю я отлично. Даже не пытайтесь, Фандорин. С клиенткой поеду я, – отрезала сыщица.
Эраст Петрович вздохнул и смирился, но в разговор вмешалась мадемуазель Эрмин.
– Со мной в купе будет мсье Фандорин. Потому что я не знаю, сколько мне осталось жить на этом свете. Наверное, эти люди своего добьются и убьют меня. Каждую оставшуюся минуту я хочу провести с тем, кого люблю.
Она взяла господина под руку, прижалась головой к его плечу – и суровая Эмма была вынуждена уступить.
В полночь поезд тронулся. Влюбленные голубки поехали вместе, а я оказался наедине с Эммой. Мое сердце взволнованно билось. Я еще не понимал, что тоже влюблен, но мое сердце это уже знало. Мне-то, болвану, казалось, что я просто испытываю к своей спутнице интерес как к необычайно одаренному сыщику.
И очень хорошо – иначе я пустился бы в ухаживания, поскольку считал себя очень ловким соблазнителем. Это всё бы испортило, в том нет ни малейших сомнений.
Эмма смотрела в черное окно, за которым мелькали огоньки, и вела себя так, словно находится в купе одна. Меня словно и не существовало. Мысли ее блуждали где-то далеко, а через некоторое время она начала напевать очень приятным, хрипловатым контральто красивую английскую балладу «Три ворона». Песня очень грустная – про убитого рыцаря. Потом Эмма запела другую песню, которую я раньше не знал, тоже старинную и печальную. Припев у нее был такой:
Но нет, я не прослезилась,
И он ничего не сказал.
Лишь сердце мое разбилось,
Как упавший на пол бокал.
– Какие трогательные слова, – сказал я в паузе. – И какой мелодичный у вас голос.
– Помолчите, а? – совсем немелодично рявкнула Эмма. – Я просчитываю, как действовать в Марбурге. Черт знает почему, но, когда я пою, у меня лучше работает голова.
– Это называется «медитация». У каждого она своя. Господин, например, перебирает нефритовые четки, а я открываю запасники памяти и позволяю голове выхватывать из прошлого что она пожелает. Очень часто оттуда приходит подсказка. Вот и сейчас, когда вы повторяли ваш припев, я вдруг вспомнил одну давнюю историю из моей жизни. Теперь пытаюсь понять, чем это воспоминание может пригодиться в нашем запутанном расследовании.
Эмма, конечно, спросила, что за история. На это я и рассчитывал. Если хочешь понравиться женщине, которую не трогает твое мужское обаяние – а Эмму мое, увы, не трогало – увлеки ее интересным рассказом.
– В тринадцать лет я был маленьким исчадием ада. Я круглый сирота, рос у чужих, недобрых людей и в конце концов сбежал от них. Целый год я прожил один в трущобах портового города Ëкохама – и, как ни странно, выжил. Для этого мне пришлось превратиться в волчонка, умеющего быстро нападать и быстро убегать, нарушающего все на свете законы и правила. Нет более опасного существа, чем ожесточившийся подросток. Он ничего не боится и никого не жалеет, в том числе себя.
Эмма внимательно слушала, это меня подбадривало.
– Наверное, я бы превратился совсем в звереныша, если бы был один. Но нас было двое, я и моя подружка Кёко. Она тоже сбежала из места, где ей не нравилось – из чайного дома, это такой японский бордель. Родители продали ее туда девочкой-ученицей, но Кёко не захотела учиться на проститутку. Она была на год младше меня. Мы жили в порту под брезентовым чехлом от американской пушки, которую купила императорская армия. Днем спали или играли в японские карты на щелбаны. Разговаривали мало. Что мы могли друг дружке рассказать? Вечером выходили на промысел. Промысел был такой. На малолюдной улице