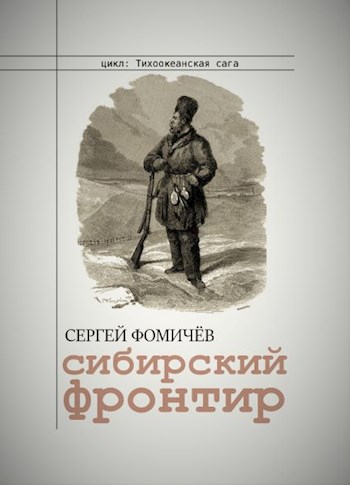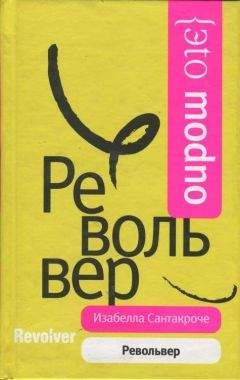калитки скорее напоминали лазы, что оставляют для домашней живности заботливые хозяева.
– Есть тут кто–нибудь? – вопрос пришлось перебросить через высокий забор.
Хозяева притворились глухими или отсутствующими.
Минут пять я прислушивался. Тишина. Даже собака не тявкнула.
Притащив из лодки бочонок с водкой, я уселся на нём посреди деревни и стал ждать. Часа через два на меня обратили внимание. Подошла пара ребят, оба на голову ниже меня, и на чистом русском поинтересовалась, не перепутал ли мил человек селение, не заплутал ли часом?
– Нет, не перепутал, не заплутал, – ответил я. – Ведите меня к набольшему вашему. С ним говорить буду.
– Пошли тогда.
Я взвалил на плечо бочонок и пошёл за провожатыми. Они направились вовсе не к лазам, не к каким–то иным потайным воротам или лестницам, порождённым моей фантазией за два часа ожидания, а, миновав череду заборов, свернули на лесную тропинку. Сперва я решил, что местный князец обитает в лесу, или шаманит в какой–нибудь роще, обеспечивая соплеменникам богатую охоту или добрый урожай. Потом заподозрил подвох – а вдруг парни задумали злодейство и просто уводят меня подальше от лишних глаз?
Пока я прикидывал, как обрушу на голову одному из них бочонок с пойлом и сойдусь на кулаках со вторым, мы обогнули бугор, перешли ручей и неожиданно вновь вышли к селу.
Оказалось, что я просто зашёл в него не с той стороны. За неприступными заборами вполне себе теплилась жизнь. Женщины возились у летних печей, стоящих под навесами во дворах, детишки бегали, лазали по деревьям, а парни с девицами вместо хороводов копались на огородах, которые представляли собой разбросанные тут и там среди садов отдельные грядки. Впрочем, фруктовых деревьев и кустов попадалось мало. Скорее это были не сады, а слегка окультуренные участки леса, понемногу, без чёткой границы, растворяющиеся в лесе диком. Заборы здесь, похоже, ставили только со стороны речушки, откуда только и могли появиться чужие.
Полноватый в сравнении с соплеменниками вождь сидел под старой корявой берёзой и мастерил что–то из кожаных ремешков. На тряпице, заменяющей стол, лежали россыпью мелкие яблоки, стояла берестяная коробочка с малиной и миска, наполненная мутной парящей похлёбкой. От неё разносился запах варёной рыбой. Ни хлеба, ни луковицы, ни яичка куриного. Соли тоже не видно.
– Вот, Емонтай, – сообщил один из провожатых. – Он будет старшим.
– Садись, – сказал вождь, продолжая работать. – Говори.
Парни отвалили, а я уселся в позу лотоса и, выкатив на "стол" бочонок с пойлом, рассказал печальную историю, правдой в которой было лишь то, что родом я из Саранска, что недавно меня едва не пришибли на Макарьевской ярмарке, и что родственников у меня в целом свете не осталось.
Инородцем я числился ровно неделю. Всю эту неделю мы выпивали с вождём и говорили о жизни. В старые добрые времена род Емонтая как и многие в округе промышлял бортничеством, мёдом же платил ясак. Но настали времена новые и злые. Леса понемногу сводили, поголовье пчёл сокращалось. Мордва садилась на пашню, уходила "в башкиры" или в города. Однако племя Емонтая упёрлось – и насиженное место покидать отказалось, и превращаться в крестьян не спешило.
– Мёда мало, так мы деньгами платим. А деньги добываем по всякому и не про всякое я тебе сказывать стану.
Кое о чём я всё же догадался. Судя по рассказам, местных мужчин иногда привлекали к борьбе с разбоем уездные власти. Навечно в солдаты не обращали и по окончании полицейской операции обязательно распускали по домам. Видимо что–то из разбойничьих трофеев оседало в здешних сундуках. И на жизнь хватало и на ясак.
Но и от лишней копейки вождь не отказывался. Перед пьянкой он отправил куда–то гонца, а через неделю выдал мне бумагу на имя недавно умершего соплеменника.
– О том, что он помер, никто не знает. А наши болтать не станут.
Имя в бумаге совпадало с именем "невольного каменщика", отчество я мог выбирать любое и для удобства оставил прежнее, а вот новая фамилия досталась по "крёстному отцу" – Емонтаев.
– Здесь всех Емонтаевыми пишут, – пояснил вождь. – А до того Таргасовыми писали.
– Контора пишет, – согласился я.
Так и не довелось увидеть ни уездное начальство, ни даже дьяка, ни ясачных списков или куда там заносились туземные жители. Коррупция давно задавила общество, она же позволяла выживать одиночкам.
– Лучше иди в Арзамас, – посоветовал Емонтай, прощаясь. – Туда многие наши уходят.
Пара глотков свободы растревожила душу. Весь обратный путь я размышлял над услышанным от мордовского вождя, над увиденным в его селении. Род Емонтая уцепился за призрачную свободу, хотя ясак по большому счёту мало чем отличался от оброка казённых крестьян. Но лесное племя чувствовало какие–то едва различимые нюансы статуса, оно желало сохранить традиционный уклад, самобытность, считая ясак лишь откупом за свободу. Этот тип людей показался мне близким по духу. Более близким, чем купцы, ямщики, отставные солдаты или бродяги.
Часто приходилось слышать, дескать, свобода – плод досужих размышлений бездельников–гуманистов, обманка, вынесенная либералами в сферу социальной философии. Мол, концепция свободы эксплуатирует человеческий эгоизм, противопоставляет его интересам общества, а в масштабах исторического развития есть вещи и поважнее. Свобода призвана удовлетворить личность, да и то далеко не каждую, зато несвобода обеспечивает консолидацию общества, единство нации, а единая нация – это сила. Несвобода позволяет собрать потенциал государства в кулак, двинуться плечом к плечу всем миром и обеспечить будущее для многих поколений, пусть и швырнув в топку поколение нынешнее.
Тут есть что возразить даже не прибегая к столь экзотической для государственных мужей гуманистической аргументации.
Нужно взять карту России и жвакнуть ножницами по Уральскому хребту. Равных половинок, понятно, не получится. Европейский клочок суши попросту теряется на фоне бескрайних просторов, что лежат к востоку.
Насквозь пропитанный кровью и трупным запахом лоскуток Европы выкраивался веками, усилиями многотысячных армий и миллионов рабов. А почти всё огромное пространство по ту сторону Урала добыла в сравнительно короткий срок горстка свободных людей. Людей зачастую отторгнутых империей, преследуемых ей. Наёмники, беглые холопы, авантюристы, торговцы и промышленники – все они далеко не являлись ангелами. И алчностью и кровожадность они порой превосходили слуг империи. Их отличало только одно – стремление к воле.
Вот и вся арифметика – ничтожное меньшинство первопроходцев принесло империи несравнимо больше чем взятые вместе рабы и хозяева, рекруты и генералы, императоры, двор, чиновники.