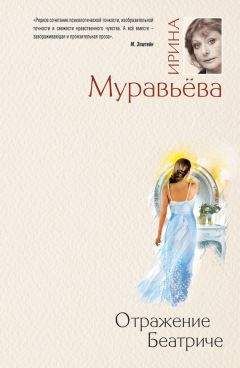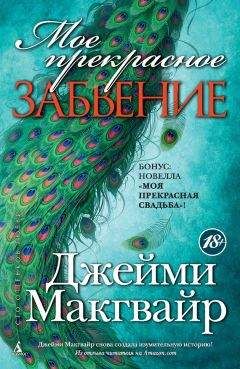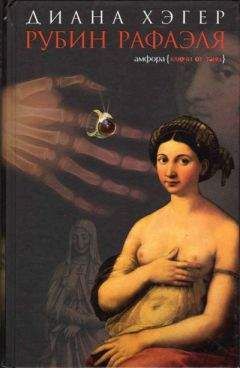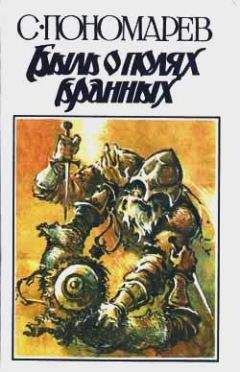– Ваша необыкновенная веселость проявляется всегда так невоздержанно перед людьми, которых вы видите редко: в ней есть что-то лихорадочное; и я в этом удостоверяюсь более, когда вспомню, что еще недавно смерть опечалила ваш дом.
– А! Монсиньор, что вы мне напоминаете? Мы не можем уронить на землю какое-нибудь воспоминание, чтоб приятель, с докучливым участием, не поднял его и не возвратил его вам, говора: «смотрите, у вас упало с сердца горькое воспоминание, положите его опять на свое место.» Да притом всякий может удивляться этому кроме монсиньора, мудрость которого в божественных вещах вам слишком хорошо известна. В самом деле, разве я не подражаю царю Давиду? Вы видите, что я беру хороший пример; как он, я воскликнул, когда умер мой сын: «я постился и плакал, покуда он жил; я думал: кто знает, может быть, Господь Бог еще сохранить мне его! Теперь, когда он умер, зачем мне поститься? Разве я верну его? Я буду все приближаться к нему; но он ко мне уже не может придти…»
По телу Беатриче пробежала дрожь от такого лицемерия.
– Однако граф, – вскрикнули разом гости: – пора вам вывести нас из беспокойства. Мы не можем дождаться узнать причину вашей веселости, чтобы разделить ее с вами.
– Благородные друзья! Если б вы сказали: пора удовлетворить любопытству, которое нас томит, – то ваши слова были бы вероятнее, и, может быть, откровеннее. Но как бы то ни было, вы хлопочете напрасно; я не намерен портить своего радостного известия, объявив его за тощий желудок. Ни за что! Бог посылает росу утром и вечером, когда чашечки цветов готовы принять ее, а не в полдень, на раскаленные камни. Приготовьте себя прежде дарами Цереры и Бахуса, как сказал бы поэт, и потом вы услышите мое приятное известие. И так, за стол, благородные друзья, за стол!
– Синьора Лукреция, – шепнула Беатриче на ухо мачехи: – какое-нибудь ужасное бедствие висит над нашими головами! Никогда еще глаза его блистали такою злобною радостью, как сегодня.
– Господи, помилуй меня и защити!.. Не знаю отчего, но у меня тоже дрожат ноги.
– Кто вам сказал, что у меня ноги дрожат? У меня уже не дрожат ни ноги, ни душа.
Все сели за стол. Граф Ченчи на почетном месте в конце стола, но тогдашнему обычаю, предоставлявшему хозяину дома самое почетное место; с обеих сторон около себя он посадил свое семейство; дальше заняли места гости, которых рассаживал дворецкий по их значению. Блюда были изысканы и разнообразны и всякое имело особенный вид: одно представляло Колизей, другое – корабль; тут же являлась телятина в виде скалы, омываемой волнами студня; крепость из марципана, и как только ее разрезали, изнутри вылетели живые птицы, огласив залу веселым щебетаньем; из огромного пирога вылез домашний карлик, одетый папою и, дав с важностью гостям свое апостольское благословение, проворно убежал.
Стаканы двигались быстро, как челнок в руках у ткача: было выпито много сортов вина и своих, и иностранных, кипрских, греческих, и больше всего хереса, аликантского и других испанских вин.
– Ну, теперь пора, – сказали в один голос насытившиеся гости: – удовлетворить наше любопытство! Скажи нам, граф, причину вашей радости!
– Да, теперь пора! – сказал Ченчи торжественным голосом и, придав лицу строгое выражение, продолжал: – но прежде, чем отвечать, мои благородные друзья, я умоляю ответить на мой вопрос если бы Бог, которого я молил усердно и продолжительно каждый вечер прежде, чем успокоить мои члены на мягкой постели, каждое утро, едва открыв глаза, – если бы Бог, говорю, который слышал мою молитву от священников во время совершения таинства, в церковном пении девственниц, в молитвах нищих; – если б Бог, после того, как я уже приходил в отчаяние, думая, что моя молитва не услышана, неожиданно, по неизреченной своей милости, исполнил сверх всякой надежды мои желания, разве я не имел бы нрава ликовать и радоваться? Если так, то ликуйте и радуйтесь со мною, потому что я, в полном значении слова, счастливец!..
– Беатриче… дочь моя… поддержите меня… я боюсь…
– Поддерживайте себя, как можете, – отвечала Беатриче Лукреции. – Я ничего не могу… голова моя кружится и мне кажется, что все гости плавают в крови!
– О Боже! о Боже! – прибавила Лукреция: – у меня дрожь пробегает по телу, как в лихорадке.
– Я полагаю, благородные друзья и родные, что всем вам известно, а если нет, то знайте, – продолжал граф: – что в церкви святого Фомы я воздвигнул семь новых гробниц из драгоценного мрамора самой изящной работы; потом я молил Бога, чтоб он послал мне благодать похоронить в них при жизни всех моих детей; наконец, я дал обет зажечь свой дворец, церковь, ризницу и всю церковную утварь. Если б я был Нероном, я поклялся бы – поджечь во второй раз Рим.
Гости, скорей удивленные, чем испуганные, переглядывались между собою; смотрели на графа, и им было стыдно за него, что он выпил так не в меру. Беатриче, бледная, как увядшая роза, повиснувшая в её волосах, сидела склонив голову на правое плечо. Ченчи еще с большею силою продолжал:
– Одного я уже похоронил; двоих других, благодаря Бога, мне предстоит теперь похоронить разом: двое у меня в руках, что почти значит – в могиле; срок их приближается. Бог, являющий такие видимые признаки своей милости ко мне, верно захочет исполнить мою мольбу перед моей смертью.
– Граф! не худо бы вам избирать менее мрачные предметы для шуток. – Какая дурная наклонность смеяться и вместе наводить ужас!
– Разве я смеюсь?.. читайте.
При этом он вынул из-за пазухи несколько писем и бросил их на стол.
– Читайте… рассматривайте, не стесняясь; удостоверьтесь во всем; я вам на то и даю их. Вы узнаете, как еще двое ненавистных сыновей моих умерли в Саламанке. Каким образом они умерли? мне нет дела; для меня важно то, что они мертвы и закупорены в два дубовых гроба по моему приказанию. Теперь мне уже немного скудо остаётся издержать на них, – и я охотно издержу эти деньги… две свечки… две обедни… если б были тележки с известкой, способной сжечь их души, – я бы велел всыпать их две тысячи к ним в могилу… О, папа Климент, ты присудил меня платить им четыре тысячи червонцев в год пенсии! Заставишь ты меня продолжать платить? Черви не поднесут тебе жалобы, нет, – в свое время они и тебя съедят… Всемогущий Боже! прими выражение моей глубокой признательности! Ты исполнил душу мою радостью не по её заслугам, но но единой твоей неизреченной милости.
Монсиньор казначей, весь дрожа от волнения, прервал Ченчи.
– Ради Бога! благородные синьоры, Не слушайте его; он потопил рассудок в вине, или еще большее бедствие постигло его. Вы, как христиане, можете видеть явное доказательство его лжи в том, что Бог не принял бы благодарения, столь противного голосу природы; и если бы то, что произносят уста этого безумца, было истиной, то Господь обрушил бы потолок на его голову.