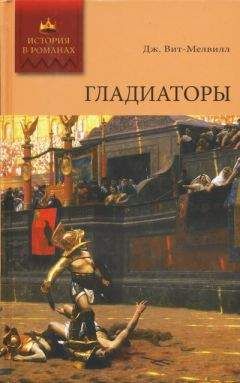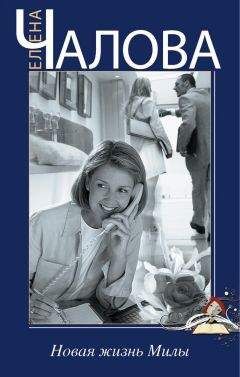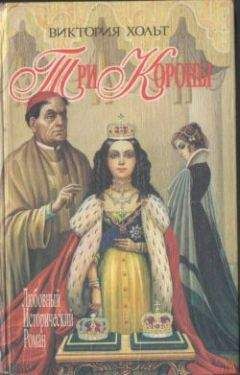— И напоминает звезды, отражающиеся в бурном Эгейском море, — издали подтвердил Оарзес.
— Она похожа только на самое себя, — сказал Гирпин, считавший свое суждение решительным там, где заходила речь о физической красоте, мужской или женской. — Это прекраснейшее лицо и красивейшая особа в Риме. Кто другой, но уж не я, мог бы обознаться, хотя я и видал только ее шею да руку в ту минуту, когда она приоткрыла занавеску своей лектики и была похожа…
Здесь Гирпин остановился, чтобы подыскать сравнение, и затем с торжествующим видом сказал:
— Была похожа на лезвие наполовину вынутого меча, который с шумом опускается в ножны.
Дамазиппу снова показалось, что дрожь пробежала по лицу его патрона, и было что-то крикливое в голосе трибуна, когда он сказал Гиппию:
— Не следует упускать этого нового Ахиллеса. Последи за ним, Гиппий. Кто знает, может быть, он будет достойным преемником тебе, знатоку по части убийства, ушедшему в этом деле так далеко, как только возможно!
Гиппий захохотал и в то же время повернул кверху большой палец правой руки, указывая на свод. Это был жест, которым римский народ отказывал в пощаде побежденному бойцу.
Заходящее солнце заливало багровым светом сломанную и еще не восстановленную колонну одного из зданий, разрушенных во время великого пожара Рима. У ее подножия тихо катился в море Тибр. Улицы царственного города были полны глухим шумом, показателем того, что пора зноя и деловых занятий прошла, и нега климата охватила даже тех, кто вынужден был продолжать борьбу за кусок насущного хлеба и мог отдохнуть только в воображении. Сидя посреди этих развалин, Эска мечтательно и задумчиво смотрел, как катятся волны. Казалось, он не видел окружающих его предметов и, однако, сидел в позе человека, приготовившегося действовать. Руки его были скрещены и голова наклонена, но ухо внимательно сторожило малейший шум.
По временам Эска нетерпеливо поднимался, делал несколько шагов взад и вперед, снова садился и бросал в воду камешки.
Вдруг на стороне реки, где сидел бретонец, показалась женщина, одетая в черное, с совершенно закрытым лицом, и начала наполнять кувшин. Почти невозможно было пройти мимо колонны, не заметив его, но она, казалось, не подозревала его присутствия. Кто бы мог сказать, как билось сердце в ее груди и как покраснели щеки под покрывалом?
Однако она открыла покрывало с восклицанием удивления, когда Эска наклонился к ней и взял кувшин из ее рук. Щеки Мариамны сделались бледнее, чем в ту памятную ночь, когда он спас ее от нападения Спадона и его товарищей по разврату.
В свою очередь и он пробормотал какие-то слова, выражавшие его удивление по поводу встречи в этом месте. Если он говорил правду, то чего же он ждал с таким нетерпением? С другой стороны, возможно, что и Мариамна чувствовала бы себя разочарованной, если бы ей пришлось одиноко наполнить кувшин тибрской водой.
Еврейка думала о нем за последние два дня гораздо больше, чем хотелось ей самой, гораздо больше, чем ей казалось. Странно видеть, как незаметно усиливаются и возрастают подобные чувства, между тем как для этого никто не употребляет никаких забот и стараний. Есть растения, за которыми мы ухаживаем и которые ежедневно поливаем, а между тем они выходят худосочными и малорослыми, и, наоборот, другие, которые мы топчем под ногами, роем и вытаскиваем с корнями, достигают такой жизненности и разрастаются так сильно, что их ветки покрывают наши стены, а наши дома наполняются их запахом.
Мариамна не была фанатичной дочерью Иудеи, для которой чужестранец был отверженным подобно язычнику. Ее постоянные сношения с Калхасом научили ее более возвышенным истинам, чем те, какие она почерпнула в преданиях отцов, и, несмотря на гордость своей расы и национальные предпочтения, она была проникнута принципами любви и терпения — основаниями новой религии, которой суждено было распространить свой свет на все народы Земли.
Однако Мариамна еще не способна была смотреть на красивого раба-бретонца, как на брата.
Скоро они углубились в разговор. Замешательство, происшедшее при их встрече, рассеялось с первым восклицанием изумления. Он не преминул сказать ей, как долго тянулось для него время ожидания около колонны, на берегу реки.
— Как ты мог узнать, что я приду сюда? — спросила девушка совершенно просто и искренне, хотя она должна была бы припомнить, что сама указала ему на свое обыкновение каждый день делать это дело во время его беседы с Калхасом, в тот вечер, когда он возвратил ее домой.
— Я на это рассчитывал, — с улыбкой отвечал он. — Я охотник, это тебе небезызвестно, и я знаю, что и самые дикие, и самые робкие животные на закате приходят к реке. Вчера я был здесь и попусту прождал два долгих часа.
Она устремила на него живой взор, но тотчас же, сильно покраснев, отвела глаза в сторону.
— Ты меня ждал, а я даже на минуту не вышла из дому во весь день, — сказала она дрогнувшим голосом. — О, если бы я знала!
Она остановилась в смущении, боясь, не слишком ли уже много сказала.
Собеседник казалось, не заметил ее смущения. По-видимому, ему самому хотелось сделать ей какое-то признание, хотелось сказать что-то такое, чего он почти не смел высказать, а между тем его честная натура отказывалась дольше скрывать это. Наконец он с усилием сказал ей:
— Ты ведь знаешь, кто я такой? Я не располагаю своим временем, даже тело мое принадлежит другому. Немного значит, что мой господин мягок, добр и благороден. Мариамна, я — раб.
— Я это знаю, — совсем тихо ответила она, с нежным состраданием во взгляде. — Мой родственник, Калхас, сказал мне это после твоего ухода.
Он глубоко вздохнул с облегчением.
— И, несмотря на это, ты хотела меня снова увидеть? — спросил он с выражением счастья.
— Почему же нет? — отвечала она с доброй улыбкой. — Хотя бы эта рука и принадлежала рабу, но она оттолкнула моего врага с силой сотни солдат и оказала мне защиту до самого моего дома с заботливостью и нежностью женщины. Ах, не говори мне о рабстве, когда твои члены сильны, а сердце отважно и чисто. Какое дело до того, что на теле цепи, если дух свободен? Эска, неужели ты думаешь, что я о тебе более дурного мнения, потому что ты язычник и раб?
Ее голос был очень мягок и нежен, когда она произносила его имя. Ухо Эски никогда не слышало слов, которые бы более чаровали его. Новое, странное чувство счастья овладело им, и, однако же, никогда его положение не доставляло ему таких страданий, как в эту минуту.
— Я не хочу ни под каким предлогом, чтобы ты дурно думала обо мне, — горячо отвечал он. — Выслушай меня, Мариамна: я сделался военным пленником и вместе с сотней моих соплеменников приведен сюда. Мы были выставлены на рынке, как животные, и, как зверей, нас раскупили поодиночке знатоки человеческого скота. Кай Люций Лициний купил меня ценой пары быков или упряжных лошадей. Я был куплен и продан, как животное, и приведен в дом своего нового господина!