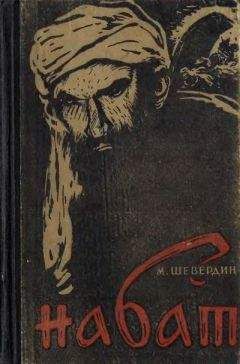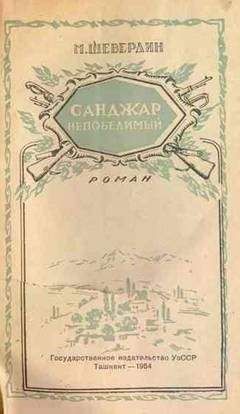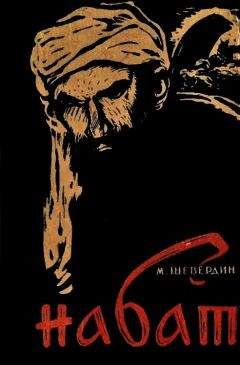— Моя жена. Моя молодая жена. Женился недавно. Живу здесь. Играю с молодой женой. Хорошо, а?
Гриневич подтвердил:
— Хорошо!
Он только не понял, зачем надо забираться в такую глушь, дикую и неприветливую, чтобы проводить с молодой женой медовый месяц. Вежливо он высказал своё удивление. Человек в шапке развеселился до того, что шлепнул Гриневича по плечу:
— Тёща и тесть, дяди и тёти, сёстры и братья жены, — ох много. И все недовольны, зачем Джаббар увез цветок Джамаль. В степи хорошо. Баранов много. Воздух чистый. Никто не мешает играть с женой. Когда хочу — играю.
Через минуту Джамаль принесла большую деревянную миску айрана, намешала в него муки, положила кусок сливочного масла. Пока шли приготовления, Гриневич успел рассмотреть Джамаль. Ей едва можно было дать пятнадцать-шестнадцать лет. Но рубаха уже высоко поднималась на юной груди, и тяжёлые бедра шевелились под материей. С любопытством поглядывала она на командира.
Хозяин уселся сам перед плошкой и пригласил Гриневича. Грубо вырезанной, пахнувшей луком ложкой они пользовались по очереди. Завтракая медлительно и важно, Гриневич не спускал глаз с холмов и степи.
Пока они ели, Гриневич изучал пытливо хозяина юрты. Он казался пожилым человеком, хотя определить точно его возраст не представлялось возможным. Широкое скуластое лицо, изрытое оспой, с жёлтой нездоровой кожей, дышавшее добродушием, узкие монгольские глаза могли принадлежать с одинаковым успехом человеку и в тридцать и в пятьдесят лет, хотя чёрная курчавая борода без намека на седину говорила в пользу первого предположения. Одежда, какую обычно носят степняки — грязная белая рубаха и такие же штаны из грубой бязи, ватный халат, подпоясанный скрученным ситцевым платком, — очевидно, видала виды и свидетельствовала о небольших достатках ее хозяина. Несмотря на холод, Джаббар бегал от юрты к очагу в кожаных калошах на босу ногу. Кожа ступней загрубела и покрылась болячками. Лицо Джаббара непрерывно подергивалось, а челюсти двигались, и Гриневич даже спросил: «С чего бы это?» Вынув изо рта небольшой катышок, степняк, как бы оправдываясь, усмехнулся: «Опий курил раньше малость, когда жил в Гиссаре. Теперь негде. А помогает от простуды и желудочных колик».
Внешность, разговор Джаббара успокоили Гриневича, хотя степняк больше молчал. В глазах его то появлялась тревога, то он совсем успокаивался.
И вдруг, совершенно неожиданно, он сказал:
— Уртак, у меня есть один «гап»— разговор. Ты хороший, я вижу, человек, ты говоришь по-нашему. Ты красный командир. Хочу сказать тебе: я иду к большевикам. Меня не тронут, если я приду к ним?
Теперь пришла очередь удивляться Гриневичу.
— А в чём дело? В чём твой вопрос?
— У меня могущественный враг — турок Энвербей. Он пришёл из преисподней в наш край. Он разорил наше население. Он убил моего отца. Он убил моего брата. Он хотел забрать, собака, себе мою молодую жену Джамаль. Проклятый, он убил наших старейшин, он снимал кожу с живого, сажал на кол. И я убежал в горы. Слушай, командир. Ты воюешь с Энвером. Я тебе помогу воевать с Энвером, возьми меня в Красную Армию. Я умею ездить на коне, у меня сильная рука, острая сабля. Я имел лошадей, я имел баранов, я имел отца, брата. Всего меня лишил Энвер и его головорезы. У меня ничего не осталось кроме коня, Джамаль и вот этой юрты, командир. Возьми меня в Красную Армию! Ты не можешь мне отказать теперь, ты ел мой хлеб, ты сидел у моего костра...
Он умильно улыбался и заглядывал в глаза Гриневичу.
Оказывается, он сам из локайских старшин. Его отец очень бедный человек, но очень гордый человек, сказал: юноши его селения не пойдут воевать. Многие локайцы сказали, что они не пойдут воевать против большевиков: не хотят воевать. Один локайский старейшина, Тугай Сары, отказался воевать. Тугай Сары собрал всех недовольных и ушел в Кулябскую долину, откоче-вал: «Мы не хотим идти с Энвером». Инглизы тоже сказали: «Не надо идти с Энвером».
— Какие инглизы? — насторожился Гриневич.
Джаббар пояснил:
— К Тугай Сары приехали люди из Афганистана. Они имеют тайно сотни целей, и сказали: «Не надо Энвера-турка, идите все к Ибрагиму!» Но народ не хотел ни Энвера, ни Ибрагима. Я тоже не хотел ни того, ни другого. Я не хотел воевать, я хотел пахать землю, сеять, как все. Но тут плохо нам пришлось. Энвер послал на нас эмирского дотхо Даулетманд-бия, целую орду каттагамцев, киргизов и туркменских калтаманов. У них оказалось много винтовок и сабель. Они убили мужчин, стариков, старух, забрали женщин и девушек, забрали коней, баранов, всё барахло. Кто успел — спасся. Я убежал с женой и спрятался в горах. Мне надоели споры, раздоры. Я хочу к большевикам, я хочу в Красную Армию. Если мне оставят мою Джамаль, я пойду воевать против Энвера. Пойду мстить за своего брата, за отца, за своих родичей, сложивших головы под Кулябом.
— А почему ты сразу мне не сказал, что хочешь поехать к большевикам?
Степняк вдруг замялся и украдкой взглянул на Джамаль.
— Я боялся. Нам говорили, что у большевиков женщины общие, я думал...
Гриневич расхохотался, и смех его успокоил ревнивого Джаббара.
Он оказался очень осведомлённым человеком. И Гриневич мог составить из беседы с ним довольно ясное представление, что творилось во всём обширном районе, находившемся ныне под эгидой Энвербея.
— Огурец ушел, баклажан явился! — определил Джаббар красочно положение. — Эмира прогнали, так теперь заявился к нам Энвер.
И если после бегства эмира в первое время, правда ненадолго, народ отдохнул, потому что эмирские чиновники попрятались, то уже очень скоро, едва Энвер объявил себя главнокомандующим, всё пошло по-старому. Снова поскакали амлякдары-налогосборщики по хирманам-токам, забирая львиную долю урожая. Снова потянулись настоятели мечетей за церковной десятиной. Раньше, при эмире, помимо налогов приходилось платить мирзе, писавшему именем благословенного эмира окладные листы, сейчас тот же мирза составлял список налогоплательщиков именем зятя халифа Энвера. Раньше до приезда бекского чиновника, обмерявшего поля, никто не смел под страхом жестокой казни приступать к жатве, и хлеб перестаивался на корню, полегал, осыпался, так как земледельцы не смели свозить его в закрома. Теперь тот же чиновник, но под названием вакиля-представителя, учинял расправу с каждым, кто до его прихода осмеливался намолотить хоть чайрек зерна для голодающих детишек. И вакилю за разрешение свезти хлеб домой приходилось «делать беременной руку», а кроме того, выставлять угощение ему и его людям. Раньше амлякдаров кормили, и теперь пришлось кормить, а у налогосборщика брюхо вмещает, как известно, столько же, сколько и брюхо библейского кита, проглотившего пайгамбора Иону, да свято его имя. Раньше бай устраивал, именем эмира бигар, общественную работу на своих землях, и кишлачники привозили в байский двор и пшеницы, и риса, и проса, и маша, и кунжута, и всего, чего угодно, чтобы бай и его домочадцы сытно жили до нового урожая. И теперь тоже пришлось везти, да ещё вдвое больше потому, что этот бай завел дружбу с приближёнными Энвербея и десятка два басмачей месяцами не вылезают с байского двора, а жрать они горазды. По случаю пребывания «дорогих гостей» приходится всему кишлаку не только ремонтировать байский дом, как в прежнее время, а ещё пристраивать новую михманхану. Раньше раз в два года приходилось сгонять баранов со всей округи, свозить рис, муку для эмирского бека, милостиво объезжавшего со свитой кишлаки и селения, а ныне чуть ли не каждый месяц, точно тучи саранчи, налетали с толпами вооружённых дармоедов то сам зять халифа, то Ибрагимбек, то ещё какой-нибудь курбаши. И всех корми, всех ублажай. Тех же, кто пытался уклониться от такой чести, постигала жалкая судьба. Налетят нукеры, изобьют, порежут, дворовые постройки сожгут. И всё «по повелению их милости зятя халифа!»