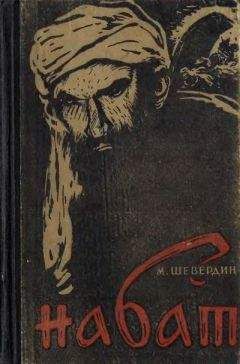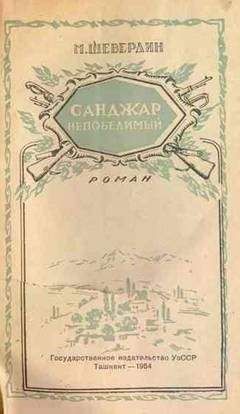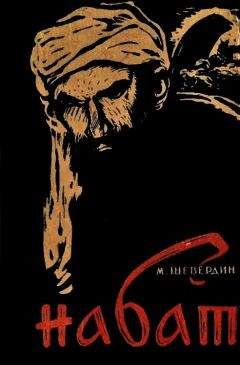Но теперь не до шелка, пришли времена нищеты и горя. И всё по вине этого взбесившегося турка Энвера.
Вскоре после погрома старейшины Юрчи собрались в чайхане на берегу шумливой реки и устроили масляхат. Они сидели жалкие, расстроенные, хотя изо всех сил старались напустить на себя важность и держаться достойно. Но какая важность и достоинство, когда на теле рваная, не защищающая от холода одежонка, когда руки дрожат от холода и обид, а у многих слеза нет-нет да и сбежит по щеке в седую, ставшую от лишений похожей точь-в-точь на пучок сухой травы, бородку. Они сидели на драных, почерневших от сажи циновках, вздыхали и даже не пили чая, потому что энверовские газии увезли из чайханы оба самовара, чайники и пиалы, а то, что не успели увезти, побили и поломали. С гор дул пронизывающий ветер, и морозом тянуло от реки, шумевшей как всегда в своем каменном ложе. Давно уже не чувствовали старики, собравшиеся на масляхат, себя так тоскливо и неприютно. Такого разорения, такай беды они не припоминали на своем веку, хотя из их памяти ещё не изгладились двадцатилетней давности карательные походы бухарцев, когда эмир подавлял восстание Восэ, а потом смирял гордость задиристых, заносчивых беков Гиссарской долины. Всякие несчастья испытывал город Юрчи, но уж такого разорения не было.
Вздыхали, охали старики ещё и потому, что Энвербей приказал собрать немедля три сотни юрчинцев, вооружить их мултуками да дубинами и стать охраной на дороге. Никого не пускать из Байсуна в сторону Дюшамбе, а кто поедет, того хватать, убивать или везти в энверовский лагерь. Пытался почтенный, уважаемый казий юрчинский разъяснить самому зятю халифа: «У большевиков-остроголовых ружья да пулемёты. Что против них дубинки?» но зять халифа только крикнул: «Измена!» — и путь казия пресёкся от пули. «Так я поступаю со стропивыми!» И господин Энвербей отбыл, нисколько не обременяя себя заботой, что скажет Ибрагимбек, узнав о жалкой участи своего тестя. Умный человек был казий: соблюдал он свой интерес, держал десять лавок на юрчинском базаре, не хотел он ссориться и с эмиром, и с Ибрагимом, и с Энвером... А вот что вышло.
Свиреп этот турок, не знает пощады и жалости. Сколько людей пропало. Да ещё голод надвигается...
Старики больше думали про себя, языков не распускали. Прежде чем сказать словечко, думали долго, трудно. Снова вздыхали. Кто не знает, что и у Энвера и у Ибрагима-конокрада есть уши повсюду, длинные уши с острым слухом. Повсюду — и в лавке и в чайхане сидят лазутчики, постоянно нюхают, слушают. Повсюду они проникают под видом купцов, дервишей, караванщиков, торговцев благовониями, нищих. Ночью они пробираются в города и селения, а то лезут и прямо к большевикам и всё там разузнают. Вон тот дервиш, что прикорнул скрючившись в три погибели у столба, придерживающего крышу, — совсем подозрительный человек, вон как из-под широченных своих мохнатых бровей зыркает на всех глазами. Не иначе — шпионская морда. При таком говорить? Сразу вздёрнут на виселицу. Шумела река. Становилось холоднее, промозглее, а старики всё сидели, не расходились, напро-тив, приходили всё новые и новые люди. И каждый раз, когда из-за угла слышалось постукивание каблуков, все поворачивали головы и следили за вновь пришедшим с таким, вниманием и надеждой, как будто именно он мог разрешить все их сомнения. Но появившийся только произносил «ассалям-алейкум», вздыхал и, забравшись на помост, принимался молчать.
Уже прошло немало часов, а масляхат по существу не начинался, что дало повод Адхаму Пустобрёху съязвить:
— Прибыли почтеннейшие в мечеть до молитвы.
На него шикнули, но молчание не прерывалось. Поглядев красными гноящимися глазами на серые обрывки туч, ползшие по крутым бокам гор, на оголённые ветви столетних ив, на грязь, налипшую на камни мостовой, один из самых старых юрчинцев вздохнул:
— Их высочество, господин великодушия эмир бухарский Сайд Алимхан, да не произнесут его имя без уважения...
— До того ты любишь своего эмира, — вмешался Пустобрёх, — что если он пальцем пошевельнет, ты сам полезешь на виселицу... Наверно только попросишь, чтобы тебя повесили на самой высокой перекладине, чтобы эмир имел удовольствие видеть, как ты дрыгаешь ногами.
— Не мешай, — важно продолжал красноглазый, — эмир наш, как я сказал, пользуется гостеприимством царя южного, отнесшегося со всем вниманием к судьбе своего гостя и брата, и подарил ему свой собственный сад, отраду для тела, и полный великолепия дворец Кала-и-фапу со всеми сокровищами...
Для солидности он помолчал, возможно ожидая услышать удивлённые почмокивания губами и восторженные возгласы. Но пора сказок прошла, и все молчали, мрачно уставив взгляды на старую, раздёрганную, точно шкуру дикобраза, циновку.
Но старику не терпелось поделиться тем, что он недавно узнал, и он, кашлянув, продолжал:
— А дворец рядом с дворцом царя. И наш эмир всегда в обществе хороших людей. И ежемесячно царь подносит в шелковом кошельке нашему эмиру по четырнадцать тысяч рупий.
— Неужели? — задохнулся, услышав столь громадную цифру, Адхам Пустобрёх, — откуда же у царя столько денег?
— Из сокровищницы. И вот ещё что. Раньше царь давал по двенадцати тысяч, а ныне — четырнадцать, вот видишь...
Но он не встретил ни сочувствия, ни интереса. Никто не умилился, не пришёл в восторг. Все сидели неподвижно, стараясь укрыться лохмотьями от пронизывающего ветра и вздыхая.
Да и что им до их бывшего эмира? Кто поверит, что он покинул пределы своего государства добровольно?! Всем известно, что его выгнал народ.
— Плохо людям приходилось от эмира, а он один был, и от одного плохо было, — сказал сидевший позади всех пастух. — Вот теперь вместо одного Сайда Алимхана два приехало — Энвер да Ибрагим... Известно, дом не устраивается двумя хозяевами, хозяйство разрушается.
— Вот так всегда бывает, — нарушил молчание Адхам Пустобрёх, — великие нашей планеты жаждут веселья, изволят жрать, пить, спать, а с нас, верных подданных, последний халат стянули, без зернышка пшеницы оставили, йие! Удивительно!
На площадь рысью въехал Гриневич.
Не шевельнувшись, старейшины с испугом смотрели на него. Гриневич смотрел на них. Под его испытующим взглядом они вдруг все начали подниматься, отдавая дань вколоченной в них всякими беками и хакимами привычке — кланяться «обладателям власти». Гриневич жестом заставил их сесть, бросил поводья коноводу и вспрыгнул на помост. Он прошёл к почетному месту и сел.
— Здравствуйте! Ну-с, почтенные, к чему пришел масляхат?
Старейшины переглянулись. Оцепенение у них не прошло, и они взирали в полном удивлении на серьезного, спокойного командира, в аккуратно застёгнутой шинели, в фуражке со звездой, в отлично начищенных сапогах.