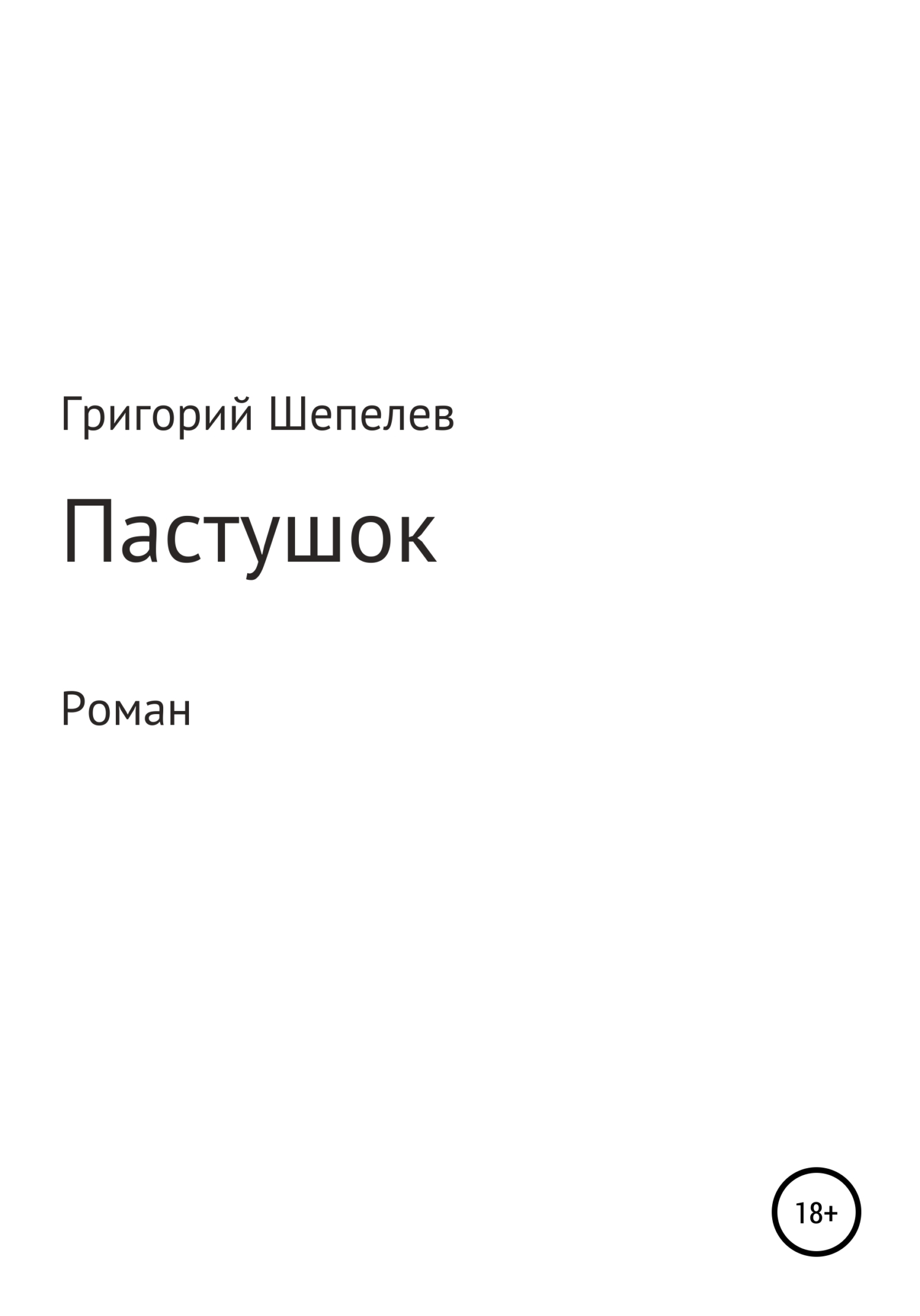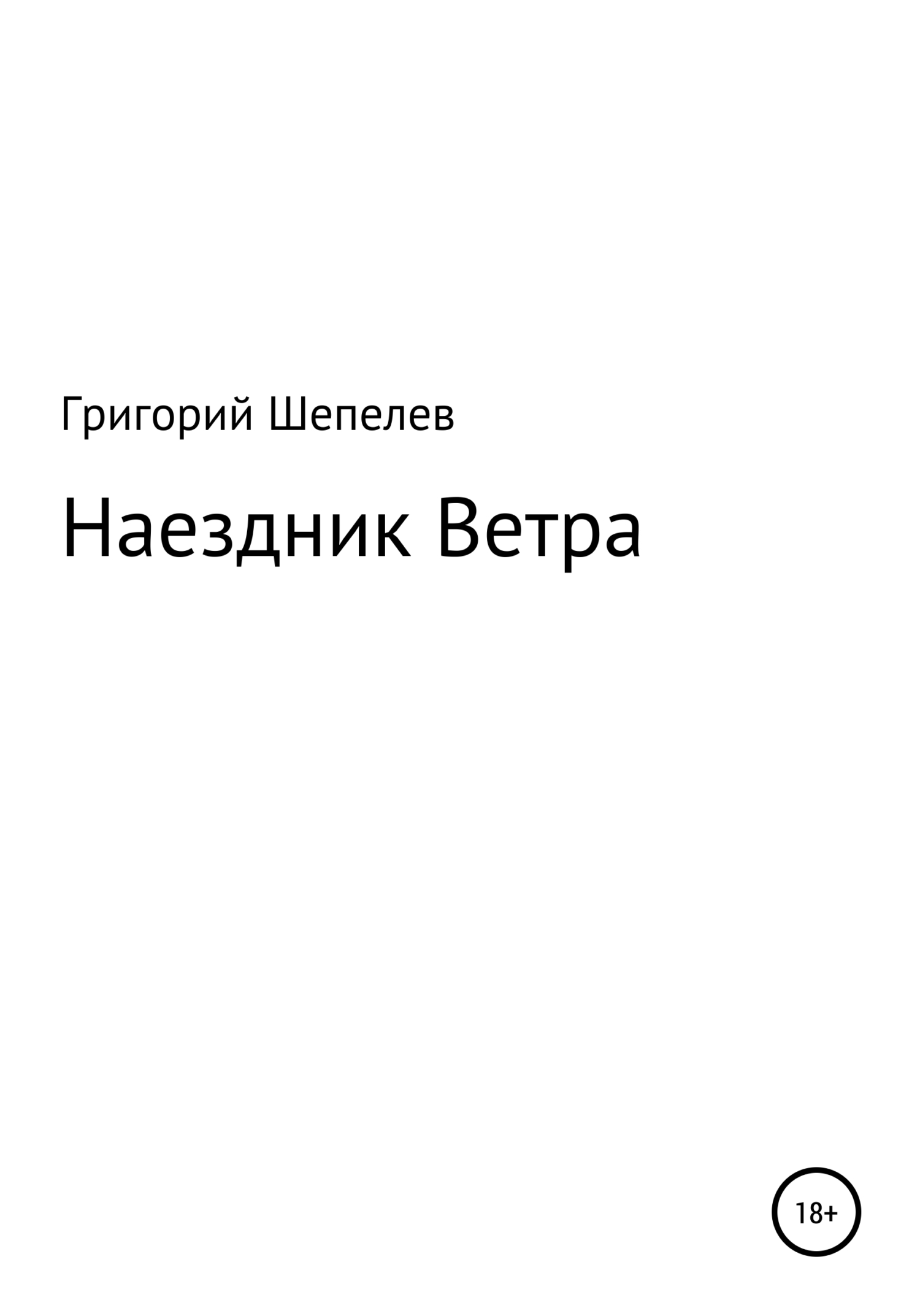не было, и она с досадой умчалась, сверкая пятками. Её девка выбежала за нею, о чём немедленно пожалела – из коридора донёсся звон оплеух. Но вскоре всё стихло, так как Меланье уже давно пора было краситься и румяниться для смиренной, благочестивой прогулки к святому месту.
– Пора и мне, – решил Ян позлить старшую сестру и поднялся с лавки, – надо ещё поглядеть, как Путша моего рыжего подковал. Если конь опять захромает, князь меня выгонит из дружины!
– Да ехать-то восемь вёрст, – нежно удержала брата Евпраксия, схватив за руку, – все три конюха занимались твоим конём с самого рассвета, я видела! Они точно трезвые были! Скажи мне, Ян… Гляди мне прямо в глаза и говори честно: Даниил едет в Вышгород?
Ян смутился под взглядом старшей сестры. Ещё бы – ни одна женщина на него никогда не смотрела так, как сейчас смотрела эта красавица, от которой сошёл с ума не только прославленный Соловей Будимирович. И сказал юный воин то, чего говорить был никак не должен и не открыл бы даже попу на исповеди:
– Не едет. Великий князь приказал ему пройтись нынче по кабакам да послушать, о чём народ говорит, не зреет ли смута. Ведь все Даниила любят, ты сама знаешь. А пить будут нынче много по всему Киеву да по пригородам. Всё – даром, Владимир-князь угощает!
– И Даниил согласился? – задумалась молодая вдова, – я что-то не верю. Откуда ты это взял?
– Откуда я взял? Думаешь, я мало пью с Даниилом вина и браги? Раз говорю – значит, знаю. Пусти, Евпраксия, мою руку! Я побегу.
– Ой, нет, погоди, – ещё крепче сжала запястье брата Евпраксия, – скажи, Ян, а грек Михаил из Царьграда будет на церемонии?
– Да, конечно. Он ведь – племянник митрополита! Как ему там не быть?
Тут Ян вдруг замялся. Его сестра заметила это.
– Ян! Ты скрываешь от меня что-то, – сурово проговорила она, – признавайся, что? Пока не признаешься, не пущу!
– Вот письмо отца, – весьма неохотно вынул Ян из кармана сложенный вчетверо лист пергамента, – думаю, ничего худого не будет, если прочтёшь.
Евпраксия протянула руку. Но Ян вдруг высоко поднял письмо.
– При одном условии!
– При каком?
– Скажи одну вещь!
– Какую?
– Я где-то слышал, что Соловей Будимирович подарил тебе ещё и кифару. А ты её из своего терема не взяла! Почему? Где она сейчас?
– Что? Кифара?
– Евпраксия, не кривляйся, а то письмо не отдам! Был по всему Киеву слух, что митрополит велел тебе её сжечь. Ты её сожгла?
Евпраксия улыбнулась.
– Да ты бы уж лучше прямо спросил, играла сама она по ночам или не играла! Да, было такое дело. Я подтверждаю.
– Не врёшь ли ты?
– Нет, ни капли не вру. Я эту кифару вечером запирала в безлюдной комнате, и она там что-то пищала с полуночи до рассвета. Не только я это слышала, но и слуги. Зелга, к примеру. Как раз она с перепугу, сдуру и разболтала митрополиту о том, что эта кифара сама по себе играет. Митрополит её освятил, потом велел сжечь, но я отдала её скоморохам, дай мне сюда письмо!
– Всё-таки ты зря её не сожгла, – задумчиво сказал Ян, опуская руку. Пока Евпраксия с нетерпением расправляла пергамент, её брат вышел, придерживая висевшую у него на поясе половецкую саблю, чтобы она не стучала по сапогу.
Письмо было длинным. Дойдя до последней точки, Евпраксия, голубые глаза которой от гнева сделались синими, взмахом гибкой руки швырнула листок на стол и поднялась.
– Слуги!
И тут из большой печи, напротив которой она стояла, вдруг кто-то вылез. Евпраксия испугалась. Но, хоть внезапный выходец из печи был черноволосым, да и чумазым, она всё же не успела подумать, что это – чёрт или кто-то ещё из нечисти, потому что он, спрыгнув на пол, чихнул и громко сказал:
– Здравствуй, госпожа!
– Это ты, Филипп? – ахнула Евпраксия, с трудом веря своим глазам, – почему ты здесь? Как ты очутился в этой печи? Откуда ты взялся?
– Госпожа Янка прислала меня к тебе, – объяснил мальчишка, отряхивая от сажи свои чёрные штаны и того же цвета рубашку. Ещё на нём были башмачки, подаренные ему самой нелюбезной дочерью Мономаха, княжной Евфимией, и раввинская шапочка с отворотами. Ему очень всё это шло – просто потому, что он был самым красивым мальчиком в Киеве. Но Евпраксия не обрадовалась его внезапному появлению, по вполне понятным причинам. И, так как он удовлетворил её любопытство только наполовину, она ждала продолженя, наблюдая за ним особенным взглядом. Под этим взглядом Ян несколько минут назад очень растерялся и покраснел. Эта же беда случилась теперь с Филиппом. Начав сопеть своим иудейским носиком, он промямлил:
– Твоя сестрица вчера сказала госпоже Янке, что у тебя разболелся зуб, и надо бы его выдрать! Госпожа Янка, встав нынче затемно, приказала мне мчаться к вам во весь дух и срочно избавить тебя от больного зуба. Я прибежал на рассвете, упав по дороге в лужу. Меня впустили, но ты спала ещё, и решил я погреться, сидя в печи. Там, в тепле, уснул…
– Да ты что? – хитро улыбнулась Евпраксия, приближаясь к взволнованному мальчишке, – значит, ты тётеньке подвернулся под руку ночью? В лужу упал? А может быть, ты влез в печь, чтоб наш разговор подслушивать, сволочонок?
Всё же она говорила с ним по-приятельски. Подойдя, даже прикоснулась к кончику его носа. Филипп немножко остыл и вспомнил о том, что не поклонился боярыне. Сделав это, он раз пятнадцать поцеловал её рууку, но вслед за тем всё равно достал из кармана вещь, которая приводила в смертельный ужас даже насмешливую княжну Евфимию – зубодёрные клещи.
– Очень мне интересно боярские разговоры подслушивать! Даже в мыслях этого не имел. А в монастыре мне заночевать пришлось, потому что у трёх молоденьких схимниц после изгнания из них бесов некоторые места разболелись. Видимо, бесы были большими. Открывай рот, госпожа!
Евпраксия по-особенному застыла перед мальчишкой, надменно откинув голову и усилив свой смертоносный взгляд особенным взмахом длинных ресниц.
– Какой ты отчаянный! Ну а если я тебя выгоню, да и дело с концом? Госпожа Меланья всё врёт, чтоб мне насолить. Будто тётя Янка не знает этого!
– Открывай рот, госпожа, – повторил Филипп, большие глаза которого делались стольже твёрдыми, как и его инструмент, – если у тебя все зубы здоровые, твоя тётушка госпоже Меланье устроит за враньё взбучку. Но если есть больной зуб, то я его выдерну.
– Чёрт с тобой, ведь ты не отвяжешься, – усмехнулась Евпраксия и присела на корточки. Задрав голову, она очень широко раскрыла свой белозубый рот и крепко взяла мальчишку за бёдра, чтоб не упасть. А чтоб он не забывался, она пристально и строго смотрела ему в глаза. Когда инструмент был всунут ей