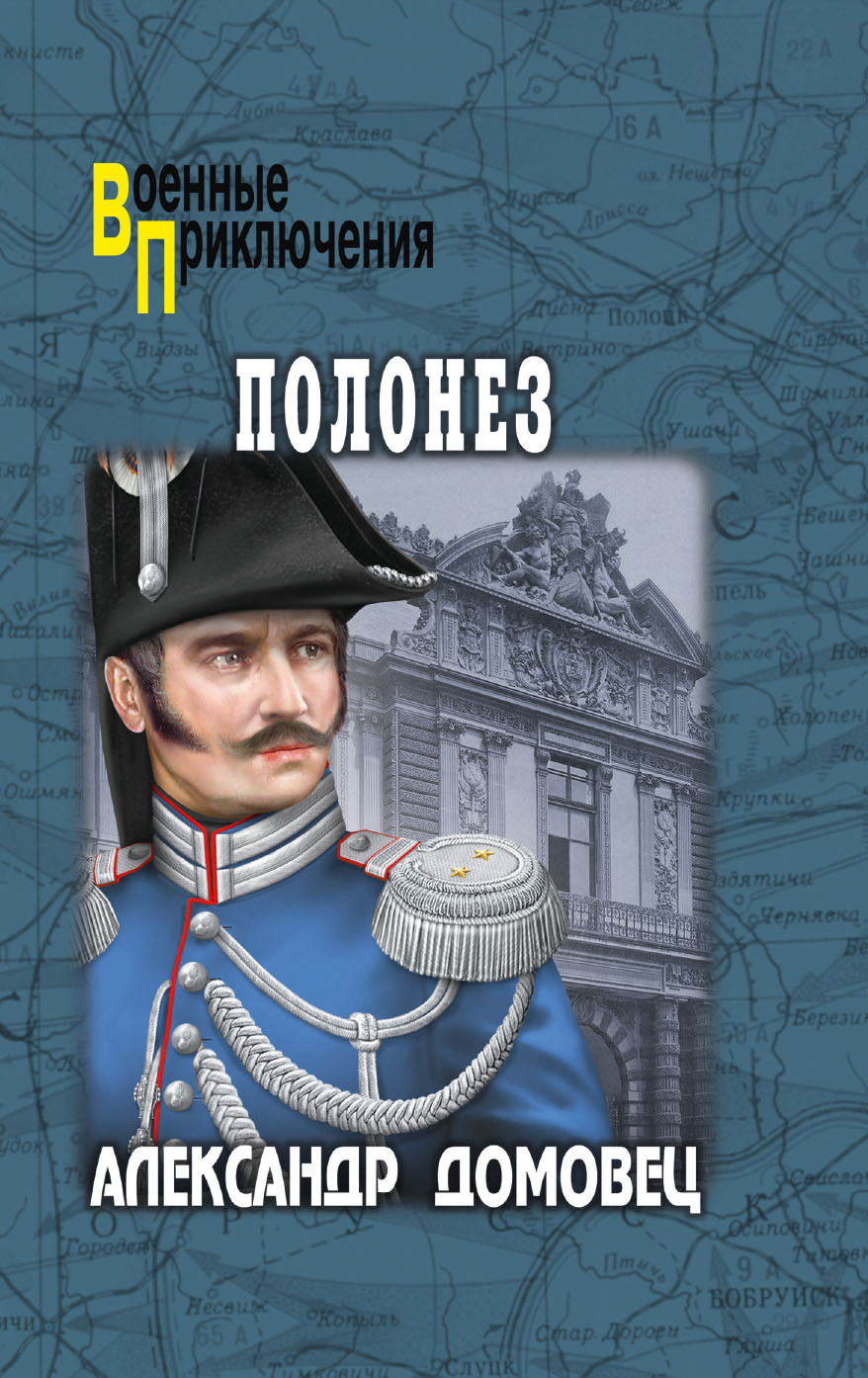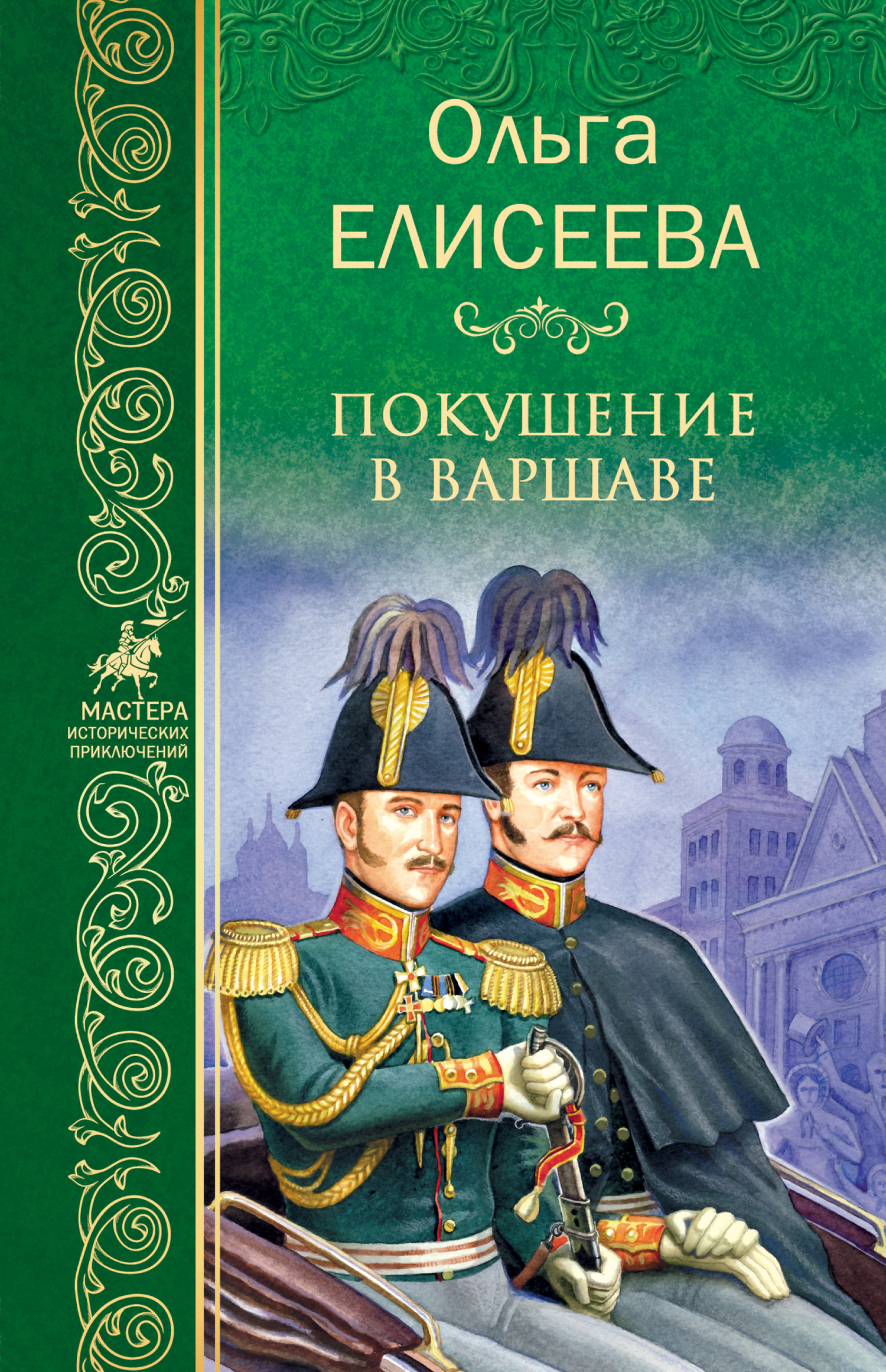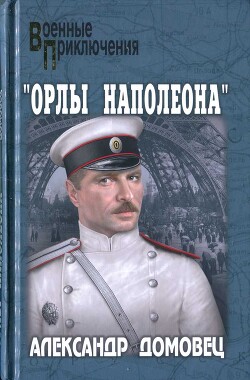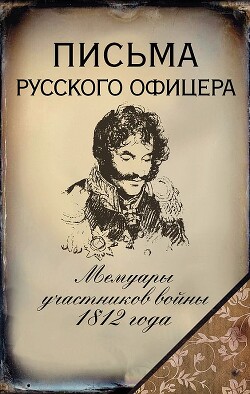хотел скрыть от окружающих всплеск нежданной боли.
После отъезда Лелевеля в Комитете на первый взгляд мало что изменилось. Ну, разве что Зых на следующий день занял председательский кабинет, а довольный Гуровский тут же въехал в комнату на первом этаже возле гардеробной, освобождённую бывшим помощником по безопасности. И всё же кое-что изменилось — атмосфера. Если раньше здесь был вольный эмигрантский клуб с бурным обсуждением газетных статей, горячими спорами и длительным чаепитием, то теперь, скорее, особняк смахивает на деловую контору.
Праздные эмигранты всё ещё могут сюда приходить, однако, ссылаясь на необходимость экономии, Зых запретил угощение и свежую прессу за счёт Комитета. Чай, кофе, булочки, газеты и журналы — всё это, к радости кассира Водзинского, осталось в прошлом. Вечно полусонного Мацея в будке привратника сменил краснорожий здоровяк Збигнев, негостеприимно сверлящий взглядом каждого посетителя. И, в общем, их число поуменьшилось. А вот желающие записаться в армию полковника Заливского по-прежнему толкутся в особняке, и без дела я не сижу.
Перед отъездом Лелевель наказывал слушать Зыха, как себя. Однако человек-сова ощущает некоторую зыбкость своего положения и потому прилагает усилия, чтобы завоевать симпатии сотоварищей. Осчастливив Гуровского кабинетом, Зых пригласил к себе Кремповецкого. После долгой беседы наш Марат вышел окрылённым. Оказывается, Зых всегда высоко ценил публицистику пана Тадеуша и теперь напомнил, что ждёт от него набор прокламаций, после чтения которых всё взрослое мужское население Царства Польского от мала до велика разом воспламенится и примкнёт к новому восстанию. (Подозреваю, что энтузиазм публициста подогрет некоторым гонораром.)
Не обделяет вниманием Зых и меня. В начале января он как-то заходит ко мне вечером и удостаивает доверительной беседы. Этак запросто садится на стул для волонтёров и удостаивает.
— Между нами было недоразумение, — заявляет он без обиняков.
— Не припомню что-то, — говорю холодно. И ничуть не кривлю душой. Подослать бандитов, чтобы учинить надо мной физическую экзекуцию, — разве это недоразумение? Это пахнет расправой.
— Ну, полно вам, — увещевает человек-сова примирительным тоном. — Теперь, когда панна Беата стала пани Цешковской, нам больше делить нечего. Что тут поделать? Из всех претендентов женщина всегда выбирает лишь одного.
Аксиома настолько банальна, что ни добавить, ни возразить нечего. Поэтому я молчу, выжидательно глядя на Зыха.
— А коли так, — заканчивает новый председатель, — ничего не мешает нам плодотворно сотрудничать. Отбросим старое, будем вместе работать на благо Польши.
И, подтверждая предложение, протягивает руку. С удовольствием бы её сломал, но ссориться с Зыхом сейчас в мои планы не входит. Поэтому ограничиваюсь вынужденным рукопожатием.
— Расскажите, как идут дела, — просит Зых. — Много ли волонтёров удалось привлечь на сегодняшний день?
Коротко рассказываю, подкрепляя рассказ длинным списком завербованных. С довольным видом Зых просматривает бумаги.
— Отлично, — оценивает он, возвращая список. — Это уже почти армия. Между прочим, поручить вам работу с волонтёрами предложил пану Лелевелю именно я. Рад, что не ошибся. — И, поднимаясь, добавляет многозначительно: — У меня на вас вообще большие виды…
В общем, обласкал.
Что касается сентенции, согласно которой женщина всегда выбирает одного-единственного, то тут всё не так просто. По крайней мере, в этом случае.
На свадьбу Зыха и панны Беаты я не пошёл, сказавшись больным. Надо ли объяснять почему? Тем не менее, встретившись в кулуарах особняка после рождественских праздников с новоиспечённой пани Цешковской, я не преминул поздравить её с замужеством. И, бог мой, до чего же холодно она ответила на моё поздравление. Но при этом не спешила уйти, искоса поглядывая на меня, словно ждала каких-то иных слов.
— Зачем вы это сделали, Беата? — говорю я, понижая голос. Вопрос вырвался сам собой, и надеюсь, по крайней мере прозвучал спокойно.
Девушка медлит с ответом.
— Так было надо, — отвечает наконец ровным тоном.
Всего трёх слов достаточно, чтобы подтвердить мои предположения.
Ни о какой любви в этом странном браке, разумеется, речи нет. Не очень-то Беата похожа на счастливую новобрачную. А вот расчёт старого негодяя Лелевеля налицо. Вынужденно передав бразды правления Зыху и боясь остаться не у дел в канун главных событий, председатель решил привязать к себе помощника покрепче. А для этого использовал родную племянницу в качестве верёвки.
Нетрудно даже представить, каким образом ему удалось уговорить девушку, испытывающую к Зыху неприязнь. Ну, например: «На Цешковского возложена важнейшая миссия, и ты должна стать его опорой в предстоящих трудах. Не ради него, — ради Польши…» Или так: «Освобождение родины от каждого из нас требует жертв…» Ну, что-то в этом духе. В общем, сыграл на глубоком патриотизме девушки. И она, несчастная, дала себя уговорить. И разделила постель с мерзавцем…
— Ну, надо так надо, — произношу как можно равнодушнее. — Тут вам виднее.
Беата вдруг хватает меня за руку. Сжимает своей горячей ладонью мою, — холодную.
— Я знаю, что мой брак всех удивил, а кое-кого и неприятно, — говорит запинаясь, будто с трудом. — И мне это безразлично. Однако есть один человек, чьим мнением я дорожу. Понимаете?
— И кто же этот избранный? — задаю самый глупый из всех возможных теперь вопросов.
— Если не догадываетесь, скажу: вы.
С этими словами она приближает своё лицо к моему, и я невольно заглядываю ей прямо в глаза. Большие, карие, божественно прекрасные глаза. И какое же сейчас в них страдание, какая тоска стынет… Сердце на миг останавливается.
— А что это меняет… — говорю, слыша собственный голос будто со стороны. — Вас интересует моё мнение? Ну, так успокойтесь, — оно выше всяких похвал. Вы стали женой самого опасного человека в Париже, — можно сказать, пожертвовали собой, и я даже догадываюсь, чего ради. Так что испытываю глубокое почтение к вашей жертве… пани Цешковская!
Беата отшатывается, будто я ударил её по лицу.
— Если бы вы только знали, — говорит еле слышно. — Если бы вы только могли знать…
Отвернувшись, медленно идёт по коридору с опущенной головой. Гляжу ей вслед с ледяным отчаяньем. А что я, собственно, должен знать — теперь? И зачем? Если и есть сейчас во всём мире человек несчастней, чем она, то это я…
В тот день покидаю особняк раньше обычного. Волонтёрам придётся подождать до завтра. Никого не хочу видеть, даже Каминского. Герой какого-нибудь новомодного романа в моём положении запирается у себя дома и оплакивает утраченную любовь, а чем я хуже? Хочу хотя бы на один вечер забыть про всё и про всех — про восстание, про Гилмора, про мсье Андре, про интриги и эмигрантскую мерзость, про своё одиночество в большом чужом городе…
Поднимаюсь в свою квартиру на улице Добрых Детей и, сбросив