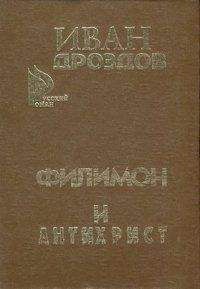— Сообщали по радио, Святополк Юрьевич, что картины ваши в Москве на выставке показывают.
Хапров не слушал Самарина.
— Да вот с театром местным меня черт попутал. Подрядился им спектакль оформить, а там режиссер есть такой — Кассис, так он мне всю душу вымотал. Требует какой–то архисовременности, а какой — сам не знает.
— А может, он верно требует?
— Вот–вот. Все так говорят: может, правы они? Ведь за новизну формы бьются. Новаторы! А новатор всегда прав. Разве не так у вас в институте: новатор — так ему и дорога. А что этот новатор, простите за выражение, шарлатан отъявленный — до этого никому дела нет. Вот хотя бы и Кассис. Подбил он меня «Остров Афродиты» оформлять — спектакль о героях греческого сопротивления. Не хотел я браться, но уговорил, проклятый, упросил, уластил. Ну и взялся я. Набросал эскизы — показываю ему. А он смотрит и говорит: «Как собираетесь трактовать?» Ну я, понятное дело, насторожился — сейчас, думаю, начнет развивать свои «новаторские» идеи. «Как вы, — говорит, — понимаете современную трагедию?» «Как и следует ее понимать», — отвечаю Кассису. Трагедия как трагедия: безысходная судьба, тупик, смерть. Но смерть не случайная, не от камня, упавшего с крыши, — герой погибает в борьбе с силами, которых он не может победить. А потому его гибель должна быть окрашена героикой борьбы, вдохновлять, сеять веру. Смерть героическая звучит призывом к борьбе. Словом, Данко Горького, Катерина Островского… «Вы не поняли моего замысла, — сказал мне Кассис. — Вы мне что — лозунги, да? Декларации, да? Нет, ничего подобного нам не нужно. Нам нужны символы. Поймите меня как художника. Я хочу поставить современную трагедию! Смерть так смерть, а не буффонада. Герой страдает, и зритель должен страдать, герой умирает — пусть зритель плачет. Хватит знамен и шествий с высоко поднятой головой. Герои тоже люди. Никто из них не умирает, улыбаясь». «Однако должен быть какой–то настрой, — возражаю Кассису. — Художественное осмысление факта. Что–то мы должны осудить, что–то утвердить. По–моему, в этом задача искусства». «Шекспир не думал о задачах, создавая свои нетленные творения. Словом, лейтмотив моего спектакля — страдание. Обнажим и покажем жизнь, какой она есть!»
— Оригинал, ваш Кассис, — Сказал Самарин.
— Обнажать все умеют. Кто нам объяснит жизнь? Хапров сделал несколько мазков, бросил кисть, пошел на кухню. Достал из холодильника вина, разлил по рюмкам.
— Я вижу перед собой героев–антифашистов, людей, идущих на смерть ради своих идеалов. А он говорит: страдание. Они страдали, да! Но не страдание главное. Борьба! — вот смысл их жизни и смерти. Я нарисовал мать погибшего героя: идет она в черной шали на фоне багрового пламени. Но Кассис говорит: «Убрать пламя!.. Пусть останется только один черный цвет».
За портьерой раздался простуженный бас Самарина–старшего:
— Бросьте вы своего Кассира, Святополк Юрьевич. Дался он вам. Картины ваши, слава богу, в ходу, недавно Третьяковка два полотна купила — чего же вам?.. Бросьте о нем! Надоел.
Самарин–старший носил дорогие костюмы, часто брился, усиленно чесал ежик на голове. Боялся, как бы про него не сказали: «Опустился Самарин».
— Садись, живописец. Потом облака свои домалюешь.
Обращаясь к сыну, продолжал:
— Все уши прожужжал мне проклятым кассиром.
— Кассисом, а не кассиром, — поправил Хапров.
— Все равно, — сказал Фома Амвросиевич. И чего там держали такую шельму. Я вот говорю Юрьевичу: ну–ка, заведись такой хлюст в мартеновской бригаде! Мы бы ему живо бока обломали.
Андрей налил себе грузинского вина. Холодная влага выжала из хрустального фужера дымчатую изморось. Покручивая пальцами фужер, вспомнил, как на сцене однажды, после финальной картины, появился Кассис. Кланялся зрителям, отечески представлял артистов. И внешним видом, и манерой говорить он удивительно напоминал Каирова.
«А теперь — отставили…»
Андрей пытался представить Каирова в положении отстраненного от должности и не мог. Слишком невероятной, нелепой казалась эта мысль. На Каирове все держится, о нем только и говорят, его именем все заполнено в институте. Вот умер директор Шатилов. Повздыхали, поохали и забыли. Сейчас его обязанности исполняет заместитель. И — ничего. Кажется, так и надо. Не будет директора год или два — никто не заметит. Но Каиров… тут дело другое. Без него нет лаборатории, нет института. Так думает Папиашвили, Пришельцева, так думают многие. Случись что с Каировым, и все они всплеснут руками: «Как же теперь будет? Куда же мы теперь?» И всех остальных постигнет растерянность…
Но может быть, то же самое произошло в театре? Вот бы расспросить Марию…
— Мне бы беленькой! — тихонько просил у старика Хапров. — Фома Амвросьевич, ну дайте же мне беленькой.
Фоме Амвросиевичу не хотелось давать художнику водку, но, уступив просьбе, он сходил на кухню, принес столичную.
— Андрей Фомич, бросьте вы свои научные думы. Выпьем по одной. Ну вот. Так–то веселее. Помните, как у Сергея Есенина:
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство.
— Люблю Есенина! — восклицал художник после третьей или четвертой рюмки. — «Черного человека» люблю. Тут вся душа есенинская, его тоска и боль. Читал, Фома Амвросьевич, «Черного человека»?..
— Есенин вроде бы про деревню писал, — робко заметил Фома Амвросьевич, нанизывая на вилку грибки собственного засола.
— Про деревню, Фома Амвросьевич, про деревню, — согласился Хапров и положил руку на плечо старика. — Про деревню и про душу. Про нашу душу, русскую. Вы вот тоже русский человек, а душу свою не знаете. Надобно, наверное, в Лондон укатить и оттуда на матушку Россию взглянуть, тогда ее оценишь и поймешь. Мой отец, когда, бывало, выпьет, разгладит лопату–бороду и запоет:
Трансва–а–аль, Трансв–а–аль, страна моя,
Горишь ты вся в огне.
Пел про Трансваль, а думал о России. Любил он Россию. И чем дальше мы были от нее — жили в Лондоне, в эмиграции, — тем больше он тосковал по родине. Граф был мой отец, эмигрант. Но где бы он ни жил — речь в доме позволял только русскую.
— Когда он помер–то? — спросил старик.
— В 1947 году. В завещании оставил мне записку: поезжай, мол, на родину, век доживай в России.
Самарин, слушая Хапрова, на минуту отвлекся от своих невеселых мыслей. Он знал историю художника, но каждый раз с большой охотой слушал его рассказ о жизни в эмиграции. Многое из того, что при первом знакомстве с художником казалось в нем наигранным и несерьезным, впоследствии получило иную окраску, стало понятным и естественным. Хапров как бы прожил две жизни: одну на чужбине, другую — в родной стране. В нем, как и следовало ожидать, боролись предрассудки и привычки совершенно противоположные, имеющие разную природу происхождения.