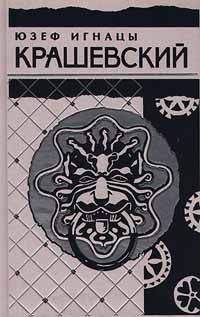ехать? – воскликнул епископ, взволнованный всё больше.
Талвощ пожал плечами.
– Принцесса объясниться передо мной не соизволила, – сказал он, – а спрашивать я не посмел. Знаю только, что едем.
Ксендз-епископ стоял с заломанными руками; его дружелюбное мягкое лицо изменилось, нахмурилось, погрустнело, было видно, что для него дорого стоило то, что был вынужден чинить принцессе упрёки.
Смутившийся, он не спешил в замок, с тем чтобы расспросить, потому что хотел остыть от первого впечатления, опасаясь подвергнуться слишком живым упрёкам принцессы, а был к этому обязан.
Паны сенаторы поставили его тут на страже; принцесса не должна была сделать шагу без их ведома и согласия; епископ не слышал ни о какой поездке, а здесь уже делали, не спрашивая, приготовления к ней.
Талвощ поклонился ему и ушёл.
Ксендз Войцех, постояв ещё минуту в недоумении, неторопливым шагом проскользнул в покои Анны.
В зале аудиенций, в котором его обычно принимали, было пусто. Только Дося наводила порядок на столиках и пришла поцеловать руку ксендза. Епископ не смел её спрашивать.
Затем из боковых дверей выглянула крайчина и исчезла, а спустя мгновение показалась принцесса Анна и вошла медленным шагом.
Епископ её молча приветствовал, изучая глазами; в лице не нашёл никакой перемены – была вполне спокойной и не казалась смущённой, когда ксендз Войцех был в чрезвычайном замешательстве.
– Вижу, в замке какие-то приготовления, – промолвил он несмело, – такие, как для путешествия. Или ваша милость получили какие-то ведомости от сенаторов?
– Никаких, – ответствовала Анна, – но эпидемия ежедневно приближается к Плоцку и я её тут ждать не думаю. Я должна искать более безопасный приют.
– Но это не может произойти без ведома панов сенаторов, – прервал епископ.
– Это ваше дело, отец мой, с ними о том договаривайтесь, – сказала спокойно Анна, – что до меня, мне нет необходимости ждать ничьих приказаний, я всё-таки свободная.
Пот каплями падал с лица епископа, он вытирал его лихорадочным движением обеих рук.
– Да, да, – поспешил он подтвердить, – но тем не менее без их ведома не следовало бы. Куда ваша милость хочешь ехать?
– Я думаю, что в Ломже буду наиболее безопасна, – холодно, после короткого размышления отозвалась принцесса.
Епископ ломал руки, пришло ему на память, что из Ломжи легче было с литвинами договориться, что оттуда также принцесса может иметь какие назначенные дороги и послов на съезды, которые ожидались.
– Стало быть, пожалуй, нужно тотчас об этой воле вашей милости дать знать архиепископу, пану маршалку и воеводам, – говорил ксендз хелмский и в устах его зашипело и голос его был всё более слабым.
– Ничего не имею против этого, – ответила Анна Ягелонка, – но слишком поздно будет об этом их уведомлять, коли я ждать ответа не могу. Поедем завтра или послезавтра.
– Это бесповоротное решение? – прервал ксендз Войцех мягко. – Я бы осмелился вашей милости напомнить, что панов сенаторов раздражать и обескураживать не следовало бы.
– Но также не поддаваться им и не унижаться, – ответила Анна, – ибо из меня куклу какую-то сделали, которой я не могу быть, зная права и достоинство моей крови. Я именно хочу показать, что не считаю себя невольницей и подчинённой чьим-либо приказам. Советы охотно слушаю, но больше ничего. Если они не согласуются с моим убеждением, я должна их отвергнуть.
Епископ поднял руки вверх.
– Но, ваша милость, пожалуй, не видите, что это объявление войны! Что это сопротивление есть против воли народа.
– Я её уважаю, но ей своей пожертвовать не могу, – изрекла принцесса. – Вы, дорогой отец, не убедите меня. Я долго думала, взывала к Святому Духу, а что решила, то сделаю, и будет, что Бог даст! Поеду в Ломжу.
Епископ молчал, принцесса мягко добавила:
– Вы со мной, не правда ли?
– Я должен, – сказал ксендз Войцех тише, – хотя взаправду против этого путешествия протестую.
– Не думаю, чтобы вы, дорогой отец, или пан воевода Уханьский намеревались задержать меня силой. Вы доносите, что я делаю, а я поступаю, как мне лучше.
– Эпидемия ещё далеко! В Плоцке о ней не слыхать! – произнёс епископ.
– Когда подойдёт, не будет времени выезжать, – сухо сказала Анна.
Ксендз хелмский не ответил, поискал в голове, что могло привести к внезапному решению отъезда; ему было трудно о чём-то догадаться, кроме более простой договорённости с Литвой, терялся в предположениях.
Императорских посланцев или, может быть, французских принцесса там безопасней думала принимать?
Анна прохаживалась по комнате, не показывая малейшего волнения. В эту минуту вошла одна из женщин, спрашивая о каком-то распоряжении к поездке, которое Анна выдала смелым голосом и без размышления, точно давно его имела приготовленным в голове.
Епископ хелмский пробовал ещё разными способами склонить принцессу, если не к перемене решения, то к задержке его исполнения, пока бы он не получил ответа, но должен был в итоге убедиться, что принцесса не даст себя отговорить, вздохнул, попрощался и пошёл как можно быстрей к пану воеводе, который, по счастью, находился в Плоцке.
Уханьский до сих пор ни о чём не ведал и, как епископ, очень изумился, но он также не смел даже осмелиться подумать о том, чтобы принцессу задержать в замке силой и не допустить отъезда.
– Принцесса имеет много друзей, – сказал он, – все жалеют её сиротство, упаси Боже от раздоров с ней, пойдёт по свету весть, что её притесняют и в неволю сажают сенаторы, шляхта будет волноваться. Последствия могут быть грустные. Литва только ждёт зацепки, готова заступиться за неё.
Передайте, ваше преподобие, донесение, но если ехать упрётся, пусть едет, нам власти не дано, чтобы её запирали, только дозор и бдение.
Они так ещё разговаривали, когда пришёл к воеводе с прощанием референдарий Чарнковский. Выезжал и он как посланец от принцессы вместе с ксендзем Яном Бораковским, лючицким пробощем [11], к примасу и на съезды, в деле тыкоцынских сокровищ и иных важных дел.
Епископ и воевода хорошо знали референдария, как преданного сердцем и душой не только Анне, но всем трём Ягелонкам, набросились, поэтому, на него сверху, требуя объяснения: что значило внезапное решение?
Чарнковский, который сидел безопасно на нескольких стульях, служа Анне, присягая в верности Софии, а, прежде всего, следя за императорским делом, с некоторого времени начинал, недоуменный, замечать, что тот, кто надеялся управлять принцессой, был вынужден ей поддаваться и исполнять, что ему поручала.
В его глазах та некогда плачущая и слабая женщина переменилась в смелую, не открывающую всю свою мысль, энергичную пани.
Чарнковский её не узнавал.
Вдобавок ко всему, он находил, что к императору и девятнадцатилетнему цесаревичу она вовсе не склонялась. Уделила даже внимание референдарию,