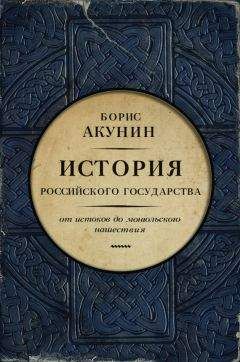оттуда убрал, многое переписал, многое вставил – всё больше ради его княжеской милости пользы, но и о своей нужде тоже позаботился. Длинные похвалы Печерскому монастырю повыкидывал, запись про Перуново выдыбание тоже не оставил.
Ох, велика проделанная работа, многих иноков старанием и его, Силивестра, попечением, а до окончания далеконько. Великий князь всё недоволен, раз за разом приказывает переделывать. Что драгоценных пергаментов переведено! А бересты, где начерно пишут, и вовсе не счесть. Роща березовая под холмом вся ободранная, черная стоит.
Но жаловаться было грех. Оно и всегда грех, ибо жалобное сетование подобно богороптанию, но тут вдвойне. В кои-то веки на Руси явился государь, чтущий письменное слово, ведающий силу чернильную.
В позапрошлый год князь призвал духовника к себе, повел такую речь:
– Сделавшись стар, я всё чаще думаю о смерти и о том, что будет после нее. Я не о душе глаголю (она в воле Божьей, Ему – суд), я о людской памяти. Каким я, Владимир Мономах, в ней останусь? Обычные человеки живут от люльки до могилы, у государей же главное житие наступает после кончины, когда распрямятся наследники и осмелеют охульники. Тогда лишь и видно, чего государь стоил. Что оставил он после себя – добро или зло, крепкий терем иль кривую развалюху? Как люди мимо твоего склепа ходить будут – с сердечным словом или с плеванием?
– Тебе ли о том тревожиться, государь? Ты всеми любим, таким и в потомстве пребудешь, – ответил Силивестр, еще не угадав, к чему разговор. Про себя подумал: «Всё тебе, ненасытному, мало. Выше всех в сей жизни воссел, все пред тобой склонилися, теперь хочешь, чтоб и после смерти кланялись». Вслух-то он со своим духовным чадом так не разговаривал – упаси Господь. Князь был речами мягок, но при нем всякий человек нутром поджимался, даже исповедник.
– Сыновья меня не забудут, внуки тоже что-ничто вспомнят, а для правнуков я буду уже ветер вчерашний, снег прошлогодний. Надо у греков учиться. Они на людские перетолки не полагаются, всё в хроники записывают. Вот император Юстиниан Благоверный пятьсот лет как помер – а помнят его, нынешним владыкам в пример ставят. И нам так должно. Знаю я, что брат мой двоюродный Святополк, княжучи, велел печерским монахам составить из старых записей единый летописец, да дело велось небрежно, как придется. Поглядел я их писанину – взял меня страх. Про старину там одни бабьи сказки, про новину того хуже. Святополк, мяса кусок, у них мудрее деда Ярослава, про меня самая малость, а Олег Черниговский у них выходит хоть и душегуб, да удалый мо́лодец, из героев герой. Забери, Силивестре, из Печерского монастыря все пергаменты. Сведи воедино, поправь как надо, после начисто выбели. Это отныне и будет Русская Память – такая, как ты напишешь. Муж ты мудрый, понятливый, ведаешь мою душу и мои мысли, а чего не сведаешь – я подскажу.
И подсказывал, направлял, наставлял.
Составил Силивестр стройное сказание от самого Рюрика, про которого никто ничего не помнит, до наших дней. Украсил повесть многими благочестиями, так что и перед иноземными хрониками незазорно, но последняя часть, про недавние годы, всё не складывалась. Главное-то игумен ухватил верно: про брани с Олегом написал так, чтобы черниговские Ольговичи после не чванились. Показал Владимира Всеволодовича изрядно, сам Ярослав Мудрый позавидовал бы. Но месяц назад государь почитал готовый пергамент – опять исчиркал. И дал новое задание, паче всех труднейшее.
– Не будет сей хронике от правнуков веры. Больно льстиво про меня написано. Вот про Владимира Красное Солнышко, моего прадеда, получилось хорошо: сначала про его злодейства, потом про его позднейшее величие. Читаешь – веришь. А я в малолетстве еще застал стариков, которые прадеда помнили. Они говорили, что он до смертного часа лют и чернозлобен был. Но старики те давно сгинули, их слова водой унесло, а летопись – вот она. Каким прадед в ней явлен, таким вовек и пребудет. Хочу, чтоб ты, Силивестре, про меня злое вписал, про грехи мои. Я ведь не по небу летал, по земле ходил, а бывало и по грязям. То ведомо и Богу, и людям. Много плохого не надо, а два иль три худших моих злодейства впиши – из той поры, когда я еще великим князем не был. Сам избери, я ведь тебе во всех своих прежних против Исуса Христа кривдах исповедовался. Пиши, как было, не страшись. Через месяц, на Троицу, приеду – зачтешь.
Месяц прошел. Слово у государя твердое: сказал на Троицу, значит жди. Вот игумен с утра и ждал. Сидел у себя в келье, на столе кипа пергаментов, смотрел то на дорогу, то на Зверинецкую заводь, где под ветром щербилась неспокойная вода – будто Перун недобро помигивал тысячью глаз, тьфу на бесовские происки.
В полдень вдали затрубили. Такой порядок: скачет князь – все с дороги сходи, конные спешься, телеги на обочину. Владимир Всеволодович всегда гонял быстрой рысью, вечно торопился по большим государевым делам.
Из-за рощи вынесся передний ездовой, за ним всадник на белом коне, алое корзно по ветру, потом, сверкая чешуей, десяток хранителей тела.
Силивестр перекрестился, взял со стола приготовленную икону Святого Михаила, в чью память поставлен монастырь. Пошел благословлять.
Ох, не прогневался бы государь на хулы…
* * *
– Будет предварять-то, – нетерпеливо прервал князь игумена, когда тот стал объяснять, что писал не ругания ради, а лишь с покорством исполнял веленное. – Ты ведь сказываешь правду, не лжу, не вражьи наветы?
– Только правду. На память не полагался, сверял по годовым записям, как в старой летописи значится…
– И много ль там за мной злодейств записано?
– Я оставил два, – уклончиво ответил Силивестр. – Думаю, довольно будет.
– Лучше бы три, Бог любит троицу, но поглядим.
Владимир с кряхтением сел на скамью, слуга подставил под подагрическую ногу скамеечку. Верхом-то государь ездил быстро, а ходил трудно. Побрюхател к старости, потяжелел, опирался на палку.
– Что там у тебя первое? Из какого года?
– Из шесть тыщ пятьсот восемьдесят пятого.
– Это мне двадцать пять лет было, в Смоленске я княжил, отцом посаженный, – кивнул Владимир. – Чти.
Игумен открыл рукопись на закладке.
– «В год 6585-й воевал Владимир с Всеславом Полоцким. Ходил на него трижды. Сначала с отцом великим князем, весною, но не нашли они Всеслава, сильного нехристианским чародейством, только зря коней истомили. В другой раз Владимир ходил летом, с братом двоюродным Святополком, и Полоцк пожог, но Всеслава снова не добыли, попусту воинов по болотам растеряли. Всеслав же, оборотившись лесною лисицею, сам напал на безоборонный Смоленск и тоже его пожег, а