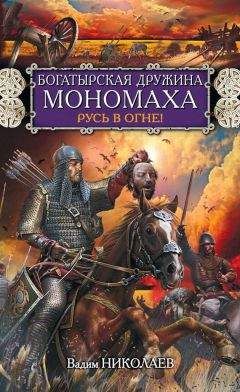Утром так и не спавший Добрыня вымылся в бане, оделся в чистое платье и приказал подстричь себя. Он похоронил мать, на что ушло еще несколько дней, и только после этого отправился в Киев.
Подскакав к великокняжескому теремному дворцу, занимаемому теперь Мономахом, Добрыня по звукам, доносящимся оттуда, понял, что там идет пир. От прохожих он узнал, что это женится старший княжеский дружинник – нетрудно было догадаться, кто именно. Свадьбы, как и похороны, тоже устраиваются не сразу.
Добрыня спешился с коня и направился к дворцу. Два совсем молодых, незнакомых ему дружинника, стоявшие на страже, спросили, кто он.
– Добрыня Никитич, – ответил он, – бывший старший дружинник князя Владимира, девять лет томившийся в половецком плену.
Судя по лицам молодых дружинников, его имя было им хорошо знакомо.
Когда объявили о появлении Добрыни, в палате, где только что гуляла свадьба, все сразу стихло. Настасья, недавно сиявшая от счастья, побледнела, Алеша тоже выглядел растерянным. Даже Мономах, как ни старался, не мог сохранить невозмутимость.
Вскоре вошел Добрыня. Уже третий раз он бывал в этой палате: девятнадцать лет назад – на свадьбе Святополка и Марджаны, тринадцать лет назад на пиру у Святополка и вот сейчас – на свадьбе собственной жены.
– Замуж выходишь, Настасья? – с упреком спросил он. – А разве не мне ты отдана Богом в жены? Или мы разведены с тобой?
– Великий князь, – смело ответила Настасья, – обещал мне после того, как ты пропал, что, если за девять лет о тебе ничего не будет известно, я смогу выйти замуж за Алешу. Митрополит Никифор дал согласие на наш брак. И мы уж обвенчаны с Алешей.
– Хорошо, пусть, – согласился Добрыня. – Хоть и не по душе мне такие обещания. Разве можно заново венчать неразведенную, если неизвестно, точно ли мертв ее муж?
– Я спрашивал о тебе у половцев, – нагло соврал Мономах, – и они подтвердили, что ты мертв. Несмотря на это, я ждал еще пять лет и, как видишь, дождался-таки твоего возвращения.
– Мог я и опоздать, – ехидно заметил Добрыня. – Смерть моей матери, которую Настасья Микулишна бессовестно оставила больную в Переяславле, задержала меня. Проживи моя мать чуть дольше, опоздал бы я на вашу беззаконную свадьбу. Но теперь митрополиту придется отменить свое дозволение.
– А верно ли я думаю, – спросил Мономах, – что снюхался ты тогда с Боняком? Больно уж ловко прошел он все заставы.
– И как не стыдно тебе, князь, – возмутился Добрыня, – возводить на меня напраслину?! Четырнадцать лет я верой и правдой служил тебе; служа тебе, попал в плен к половцам и девять лет терпел у них лишения, а ты вместо благодарности клевещешь на меня! Уж несколько лет, как нет в живых Боняка, и ты, пользуясь этим, обвиняешь меня в предательстве.
– Ты прав, – признал Мономах. – Жаль, что не удалось взять Боняка живым и допросить. А теперь что толку обвинять. Зато в другом могу тебя обвинить. – Впервые Мономах заговорил об этом открыто. – Разве не сообщил ты Святополку (да будет земля ему пухом!) нечто, доказывающее смерть жены его Марджаны? После этого он смог вновь жениться, и у него родился второй сын, после чего Святополк был уверен, что его потомки получат киевский престол. Хорошо, что киевляне рассудили здраво и призвали меня. А ведь могло этого не случиться. Но и Ярослав Святополчич мог каким-нибудь образом умереть. Второй сын необходим был Святополку, и ты помог ему в этом, презрев интересы своего господина.
Только теперь Добрыня убедился, что коварный Мономах специально послал его тогда проверять заставы, желая ему смерти или плена. Впервые в жизни испытал он желание ударить или даже убить Мономаха, но, конечно, подавил в себе это страшное желание. Отпираться он тоже не стал (ведь и митрополит мог все подтвердить):
– Великим князем был тогда Святополк Изяславич, и он был моим первым господином. Да и не взял я у него денег, хоть и предлагал он мне, а лишь попросил посодействовать мне в разводе с постылой женой.
– Вот, стало быть, ради чего предал ты меня, – ядовито проговорил Мономах. – Ради того чтобы жениться на молодой красавице.
Ненависть к Мономаху продолжала бушевать в Добрыниной душе. Ища, на ком бы сорвать зло, он обратился к Алеше Поповичу:
– А ты, ты ведь считался моим другом! И ты хотел взять за себя мою жену?
Он бросился на Алешу с кулаками, готовый его убить. Прочие дружинники еле оттащили Добрыню.
– Тихо! – возвысил голос Мономах. – Еще драки вашей мне тут не хватало. Успел вовремя, так забирай свою жену и убирайся вон.
Алеша, вскочивший и готовый уже драться с Добрыней, снова опустился на скамью.
– Все люди женятся, – тихо сказал он. – Одни удачно, другие – нет, как бывший мой друг, а теперь враг Добрыня Никитич. Но никто не женился удачней, чем я. Сами все видели, сколько прожил я со своей женой.
Тут не выдержала Настасья Микулишна:
– Князь, люди добрые, не губите вы меня! Если грешна – в монастырь пойду замаливать грех, но только не к Добрыне! Вы ведь и не подозреваете, что я от него вынесла. Он меня заставлял такое делать на ложе, на что и не всякая гулящая девка согласится. Приказывал на четвереньки становиться, как собаке… Да не могу я вам пересказать весь этот позор! А хотя что мне терять… Уста мои осквернил он своим поганым удом!
Мономах был совершенно ошеломлен, да и дружинники, включая Алешу, смотрели на Добрыню, как на какого-то выродка.
– Зачем ты все это рассказываешь? – пробормотал Добрыня. – Ты же не только меня, ты себя позоришь. Неужто ты думаешь, что он, – Добрыня указал на Алешу, – захочет теперь взять тебя в жены?
– Я от нее не отступлюсь, – заявил Алеша. – Жена обязана во всем повиноваться мужу, и невиновна Настасья Микулишна в том, что ты от нее требовал. Ей, конечно, надо было исповедаться священнику, да по молодости лет не решилась она это сделать. Но я-то уж такого срама от нее не потребую и никогда ее не обижу. А если, свет Настасьюшка, не смыл я еще всю скверну с твоих уст, то смою сейчас! – С этими словами он крепко поцеловал Настасью. Добрыня снова бросился на него, и снова его оттащили.
Мономах мучительно думал, что же ему делать. Эта задача оказалась посложнее объединения Руси. Он любил Алешу и за девять лет службы в качестве старшего дружинника, как и за все двадцать три года службы (Алеша служил ему с шестнадцати лет), ни в чем не мог его упрекнуть. Помнил Мономах и о том, как Алеша во время охоты спас ему жизнь.
Настасья тоже нравилась Мономаху – и красотой, и решительным характером. Да и не мог он после всего услышанного оставить ее на поругание Добрыне.
Наконец Мономах понял, как именно ему нужно действовать. Правда, начать он решил издалека – с вещи, важной лично для него. Не мог же он, стремясь помочь влюбленным, забыть о государственных интересах. Неизвестно было, чего ожидать от вроде бы сломленного Ярославца, и кто знает, как поведет себя другой сын Святополка, Брячислав, которому пока что было девять лет. Вдова Святополка, набожная женщина, раздавшая монастырям почти все богатство мужа, отреклась за своего сына от киевского престола, но согласится ли с этим отречением сам Брячислав, когда вырастет? Причем если он взбунтуется, то, скорее всего, уже после смерти Мономаха, и кашу эту придется расхлебывать Мстиславу.