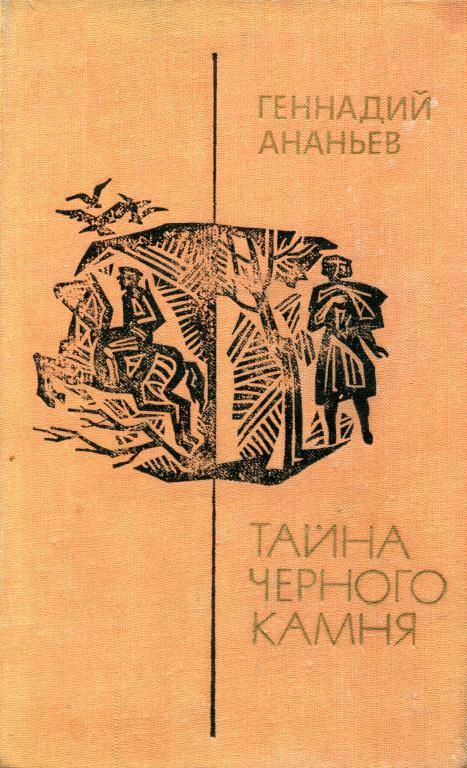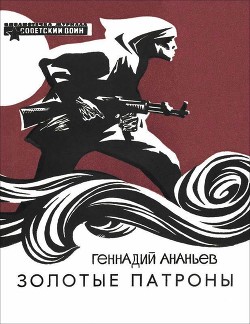чаще поглядывал, не идут ли на помощь солдаты; он начинал злиться на их медлительность.
«Ночь настанет – ничего не сделаем! А до утра Олтухин задохнется под снегом».
Проходила минута за минутой, а с ними исчезла и надежда на спасение солдата. И вот когда Баскова уже охватило отчаяние и он без всякой надежды на успех начал разгребать снег в новом месте, неожиданно захватил руками шапку.
– Здесь! – крикнул он. – Антон Никифорович, сюда! – И принялся раскидывать снег.
Через несколько минут они откопали Олтухина. Он был жив, но без памяти. Басков передал автомат охотнику, чтобы тот конвоировал нарушителя, поднял Олтухина на руки и понес его к скале. Возле нее они и встретились с начальником заставы и пятью солдатами. Андрющенко и рядовой Силин взяли Олтухина у Баскова, а Басков, сдерживая порывистое дыхание, начал докладывать:
– Товарищ капитан…
– Потом, потом. На заставе расскажешь. Нате вот с Антоном Никифоровичем чаю. Еще теплый, – сказал капитан Шамшинов и подал фляжку в суконном чехле.
– Какой черт тянул здесь линию! – ворчал прапорщик Ерохин, проваливаясь по пояс в пушистый снег. – Ни на лыжах, ни верхом!
Ущелье круто спускалось вниз. Клыкастые гранитные стены с кусками снега, похожими на вспушенную вату, будто специально разбросанную между острыми утесами, становились выше и все больше напоминали неприступные сказочные замки. Только полоса смятого снега, которую пробивали связисты от столба к столбу между валунами, похожими на шлемы утонувших в снегу рыцарей, нарушала сказочную гармонию.
– Ветра, видишь ли, не будет, гроза не побьет, – продолжал ворчать Ерохин. – А снег? Сбросили со счета…
Словно забыл прапорщик, что всего два года назад линия связи шла по верху, рядом с тропой, и много хлопот доставляла его взводу: летом гроза в щепки разбивала столбы, приходилось ставить новые; зимой лютый ветер рвал провода. Повернуть сразу же за Хабар-асу – Перевал новостей – линию сюда, в ущелье, предложил сам Ерохин. Доказывал тогда: на десять километров короче, провода от ветра укрыты, гроза между скал тесниться не станет, на просторе ей вольготней – греми себе, швыряй стрелы во все стороны, куда приглянется. А что трудно линию тянуть, так это пустяки. Если теки и архары проходят, то уж связист столб пронесет и поставит.
Первый раз за два года на этом участке обрыв. И немудрено. Несколько дней беспрерывно шел снег. Не провода – будто толстые снежные жгуты провисли между столбами.
– Ведь что надо? – остановившись возле очередного столба, размышлял вслух Ерохин. – Чуть-чуть дунул бы ветер в эту дыру, посбивал снег с проводов, сидели бы мы в тепле…
Повернулся к остановившимся за спиной рядовым Жаковцеву и Дерябину. Жаковцев снимал с плеч вещмешок, проволоку и когти, а Дерябин с веселой ухмылкой на лице прикуривал сигарету.
– Ишь ты, разулыбался. С чего бы? – спросил прапорщик.
– Вспомнил вот, – ответил с ухмылкой Дерябин, – у нас, в Рязани, ворчунов ерохами зовут.
Жаковцев метнул на Дерябина осуждающий взгляд: как же можно с командиром взвода, старшим по званию и отцом по возрасту вот так, бесцеремонно? Он бы, наверное, отчитал Дерябина, но прапорщик, поняв это, успокоил Жаковцева:
– Ничего, Илларионыч, я не серчаю. – Потом обратился к Дерябину: – Память, Сергей Авксентьевич, больно у тебя однобокая, в этом беда. С самого лета шутку мою помнишь, а вот о чем на перевале полчаса назад договаривались – запамятовал будто. По очереди, говорили, на столбы полезем. Чей теперь черед?
– Мой.
– Особого приглашения ждешь?
– Покурить нельзя, – недовольно проговорил Дерябин; бросил сигарету, взял у Жаковцева когти и, утоптав снег у столба, стал неторопливо крепить когти к валенкам.
Прапорщик видел, что Дерябин делает все нехотя, словно из-под палки, но правильно, – не упрекнешь, не заставишь переделать, – и это раздражало Ерохина. Однако он не подавал вида. От возникшего сомнения: «Прав, видать, командир, не следовало бы брать его с собой», – отмахнулся, как кот от назойливой мухи. Снова, в какой уже раз, подумал: «Не тыкаться же ему всю службу, как слепому котенку. А без соли, без хлеба, какая беседа? Попеняешь ему с грош, а с него, как с гуся вода».
Когда Дерябин прибыл во взвод и доложил о себе, он поначалу понравился Ерохину. Открытое доброе лицо, умные глаза, серые, с голубизной. Высок, плечист.
«Все при нем», – подумал тогда Ерохин о новичке. А тот словно разгадал мысли своего командира и сказал весело:
– Жертва аксельрации. До двух метров самый пустячок не дотянул.
– Дотянешь. Все впереди у тебя, – вполне серьезно ответил Ерохин и добавил: – В самый раз прибыл. На Хабар-асу гроза прошла. Свежая сила позарез нам нужна.
Тогда они только закончили тяжелую работу: сменили столбы на болотистом участке. Восемь километров болот. Почти месяц грызли связистов комары, а гнилой воздух дурманил до тошноты. Но с каждым днем сопка Карева с красным флагом на вершине приближалась. Там кончалось болото, там ждал их отдых. И вот наконец вкопан и укреплен на сухом островке среди зловонной тины последний столб, натянут последний провод, и сразу расслабились солдаты, побросав инструменты, повалились на траву. Солнце вмиг высушило их потные волосы, оголенные до пояса тела и начало нещадно припекать, но ни у кого не было желания встать и пройти двести метров до сопки, укрыться в ее тени. Даже Ерохин, который нет-нет да и ворчал недовольно: «Эх, как прижигает. Что в аду. В прохладу бы теперь», – оставался лежать на солнцепеке.
Больше часа валялись связисты на горячей траве. Начали поднимать головы лишь когда над Хабар-асу загремел гром и ослабленный расстоянием ветерок донес едва ощутимую прохладу. А прапорщик Ерохин встал и, посмотрев на чернобрюхую тучу, ползущую к перевалу, спросил будто самого себя:
– Пронесет? Или подбросит неплановой работенки?
Зацепилась за перевал туча и, словно обозлившись на то, что вольное ее движение затормозили скалы, зарычала угрожающе, вытянула огненные щупальца, силясь отшвырнуть прочь горы, разрушить их огнем, размыть водой.
Долго бесновалась туча, потом съежившаяся, обессиленно ворча, переползла через Хабар-асу и скрылась за гранитными скалами, а перевал заискрился под солнцем, как будто над чем-то весело рассмеялся.
– Ишь, радостно ему. Сияет, как яичко пасхальное. А столбы уберег ли? – сердито спрашивал прапорщик, глядя на искрившийся перевал. Потом окликнул Жаковцева: –Илларионыч, давай на столб. Подключись, работает линия?
Жаковцев поднялся и легко, вроде и не было никакой усталости, полез на столб.
«Молодец какой, а! – мысленно похвалил Ерохин солдата. – Посмотришь, как девушка холеная, а усталости не знает».
Действительно, лицо у Геннадия Жаковцева пухлощекое, загар его отчего-то не брал. Среднего роста, по-девичьи стройный, в плечах неширокий, силой своей Жаковцев