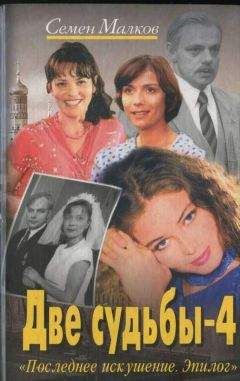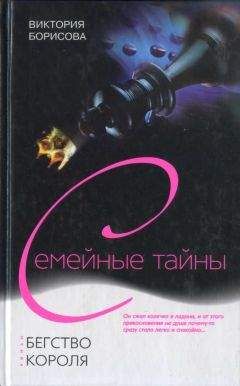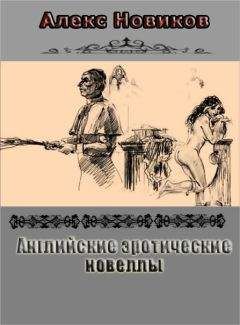Казаки от таких речей не только не унимались, напротив, вились шумными роями вокруг поезда генерального писаря, и те, которые были напереди, молча ловили, кажется, каждое его слово, между тем, как за их спинами вырывались из смешанного ропота слова: «Слышите, что говорит пан писарь? Мы мужики! Нас батогами! К земляным работам! А старшина будет нами орудовать, як чёрт грешными душами! Не дождет же она этого!» — «Не дождет, не дождет!» кричали еще громче те, которых совсем не было видно.
— Пане писарь! сказал Сомко, встретившись с ним. Что это у тебя за беспорядок? Разве на то я поручил тебе табор?
— Да вот, ясновельможный пане гетмане, отвечал Вуяхевич, кланяясь низко, вот какая беда тут. Недалеко отсюда табор гетмана запорожского...
— Гетмана! вскричал Сомко так громко, что покрыл вокруг себя говор толпы. Разве у тебя есть ешё гетман, кроме меня? Так ступай же ты к нему и служи ему верою и правдою, если хочешь, так же как и он, погулять верхом на свинье! И вырвал у него из рук бунчук гетманский.
Голос Сомка восстановил тишину сперва вокруг него, а потом и во всем таборе. «Гетман, гетман приехал!» раздавалось между казаками, и одних этих слов было довольно, чтоб заставить каждого о себе подумать. Сомко был добр, доверчив, великодушен; но иногда он не знал меры своему гневу и, подобно своему зятю Богдану Хмельницкому, разил булавою всякого, кто в горячую минуту осмеливался против него пикнуть. Он был хороший стратегик, и своими победами обязан был более своему искусству и порядку, в каком держал свое войско, нежели превосходству сил. Это одобряли однако ж только старшины, сведущие в военной науке; а войсковая чернь, напротив, вздыхала о прежней свободе и роптала на своего гетмана. Хитрая политика Бруховецкого еще более развратила сторонников Сомка. Стоя близ Романовского Кута, где господствовала совершенная вольность и где, казалось, никого не было старшего, казаки Сомковы, в его отсутствие, забурлили, заглушили голос своей старшины, а к тому еще запорожцы подослали в лагер несколько «добрых молодцев», которые вконец взволновали чернь своими рассказами.
— А что, пане гетмане! сказал Шрам после сцены с Вуяхевичем. Может быть, и теперь еще твой генеральный писарь добрый тебе слуга?
Сомко только махнул рукою и ушел в свою палатку.
— Дай лишь мне, сыну, своего бунчука. Я лучше какого-нибудь недоляшка досмотрю у тебя порядку.
Сомко отдал ему молча бунчук.
— Бедная казацкая голова! подумал Шрам. Так-то всегда обходится нам честь и слава. Смотрят со стороны люди, завидуют блеску и сиянию, а в сердце никто не заглянет. Как тяжело отцу, когда, не дай Боже, удастся разбойник-сын; так тяжело гетману, который день и ночь о своей гетманщине размышляет, день и ночь не дает себе покою, лишь бы как-нибудь эту несчастную Украину устроить по-людски; а тут у него под боком шипят змеи, прежде всего самого себя береги! Тяжело, тяжело управлять народом! Не завидую я ни одному царю во всем свете.
Так размышляя, обошел Шрам с гетманским бунчуком в руке весь лагерь, и везде расставил стражу, чтоб ни в лагерь, ни из лагеря никого не пропускали. Не отдыхая ни минуты, он беспрестанно был на ногах, беспрестанно переходил от одной к другой толпе казаков, варивших вечернюю кашу, прислушивался к их разговорам, вмешивался в их беседу. Здесь он рассказывал какое-нибудь приключение из войн Богдана Хмельницкого, воспоминая, как тогда у казаков была «воля и дума едина»; в другом месте кстати вводил в свою речь какую-нибудь евангельскую притчу или событие из священной истории. Его слово, как знаменитого воина и вместе духовной особы, имело благодетельное влияние на возмущенные умы казаков. Но он не знал, что дьявол ходит за ним и всевает плевелы в посеянную им пшеницу. Этот дьявол был Вуяхевич. Приняв на себя суровый вид, он тоже толкался меж казаками и изредка бросал, как бы без умыслу, несколько ядовитых слов так искусно, что они снова отравляли сердца, успокоенные Шрамом. Если б Шрам слышал эти слова, он в ту ж минуту раздробил бы ему голову, и отвечал бы за это перед генеральною радою; но в том-то и дело, что Вуяхевич так искусно умел рассевать свои отрывистые фразы, что одни только те их слышали, для кого они назначались.
Войско Сомково шумело и волновалось, как пчелиный рой перед полетом. Теперь уже никто не видел над собою старших; всяк сделался сам действующим лицом, всяк взвешивал в своем уме настоящие обстоятельства и спрашивался у собственного произвола, что предпринять ему. Зловредные семена, посеянные в казацких умах умышленными угрозами Вуяхевича, пустили немедленно ростки и дали плод свой. В иных местах по табору казаки трактовали вслух о своей старшине, вспоминая всякую неприятность, испытанную ими когда-либо от сотников и полковников. Старшина, слушая эти толки, приходила в ужас и робко усмиряла своих подчиненных. А между тем казаки толпами уходили из стану в Романовского Кут, и каждую минуту можно было ожидать, что все войско оставит лагерь и уйдет к Бруховецкому.
Может быть, это и случилось бы, если б Шрам, созвав наскоро частную раду, не произнес к казакам сильной увещевательной речи. Впрочем на войсковую чернь не столько подействовали его политические доводы, сколько имя Христа, которое он несколько раз повторял энергическим голосом, поднимая вверх сияющий крест с распятием. Когда души чем-нибудь сильно встревожены, когда люди, в запутанных и угрожающих обстоятельствах, не знают, куда обратиться и где искать спасения; тогда легче всего действовать на них Словом Божиим. С детскою покорностью, с сознанием человеческой своей немощи, они обращаются тогда к зовущему под покров веры голосу, и речь проповедника разливается по стесненным сердцам, как живительное лекарство. Увещевание Шрама оковало все уста и смирило все души. Старшина ободрилась, и, не доверяя подчиненным, сама заняла все пикеты.
Между тем Сомко, терзаемый досадою, сидел в своем шатре, не обращая ни к кому ни взора, ни речи. Он слышал в лагере шум, но не спрашивал о причине его, а доносить, ему о новых неустройствах никто не осмеливался.
Спал ли он в эту ночь, или нет, неизвестно; но Шрам, не смежал глаз ни на минуту. Он целую ночь ходил по лагерю, осматривал учрежденную им стражу и часто устремлял взор на Романовского Кут, где блестели, отражаясь на зелени дубов, яркие огни, и до самой зари не утихал шумный говор, подобный ропоту моря перед бурею.
Я рыдаю, як згадаю
Діла незабуті
Наших предків... тяжкі діла!
Як-бы их забути,
Я оддав бы веселого віку половину...