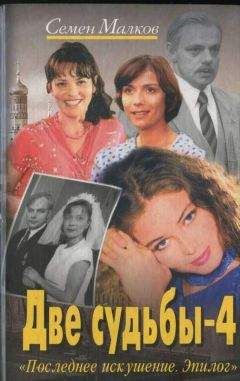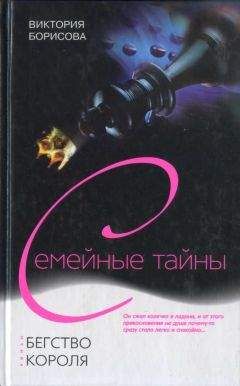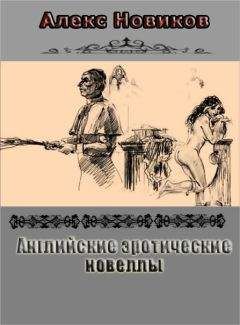ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Я рыдаю, як згадаю
Діла незабуті
Наших предків... тяжкі діла!
Як-бы их забути,
Я оддав бы веселого віку половину...
Оттака-то наша слава,
Слава Украины!
Аноним.
Расскажем теперь, что происходило в доме Гвинтовки во время Шрамова отсутствия. В эту смутную годину не было и там спокойствия и согласия ни между мужчинами, ни между женщинами. Женщин смущала несчастная княгиня, жена Гвинтовки. Её знатное происхождение, её польская природа и католическая вера, насильно обращенная в греко-русскую, все это делало искренность между ними невозможною, хотя с другой стороны наши казачки, Череваниха и Леся, не могли не чувствовать сострадания к её жалкой доле, и желали бы сколько-нибудь облегчить её грусть. Она не доверяла их доброй расположенности к себе, с горечью и худо скрытою гордостью принимала знаки их сострадания и постоянно искала случая от них удаляться.
А между мужчинами тоже все как-то не клеилось. Черевань не мог надивиться перемене в характере Гвинтовки. Знал он Гвинтовку смолоду, как отличного казака. Когда Хмельницкий во время своих войн рассылал для наездов небольшие казацкие партии, или, как говорили тогда, пускал загоны, никто не пробирался глубже Гвинтовки в Польшу, и казаки, бывало, говорят в лагере: «О, далеко наша Гвинтовка стреляет!» А в казацком обществе на пиру Гвинтовка был любезнейшим собеседником. Потому-то и сблизился с ним Черевань и женился на его родной сестре. По-видимому он и теперь так же удал, так же любезен и искренен, но все у него стало как-то шатко, и разговоры его навсегда потеряли ту прелесть искренности, которая свойственна только прямодушному человеку. Черевань, при всей простоте своей, не мог этого не заметить, и тяготился его сообществом.
— Как это, Михайло, у вас случилось, спросил его однажды Гвинтовка, что ты обручил свою Лесю с переяславским гетманом?
— А почему ж, бгат, нам не породниться хоть бы и с гетманом обеих сторон Днепра? отвечал Черевань. Разве мы от роду с гетманами хлеба-соли не ели?
— Кто ж против этого? Дочка моей сестры сумеет повести себя как следует на всяком месте. Только вы как-то поспешили, да когда б людей не насмешили.
— На что это ты намекаешь?
— На то, что теперь, в этой суматохе того и смотри, что какой-нибудь запорожский гуляка подставит ногу; споткнешься — и прощай гетманство!
— Пускай спотыкаются, бгат, наши вороги, а не Сомко! сказал Черевань.
— Ге-ге! спотыкались, брат, люди и получше твоего Сомка. Выговский, казалось, крепко сидел на гетманском столе, но Гадячские пункты и того опрокинули. А говорят, пан Сомко тоже хочет трактовать с Москвою о Гадячских пунктах. Хочет много выиграть, да когда б не проиграл и последнего! Иван Мартынович, по-моему, лучше делает, что без торгу пробирается к гетманскому столу.
— Тому, бгат, нечего торговаться, кто продал дьяволу душу. Иванцу теперь все равпо, лях, турок и православный. Увидишь, если он от царя не перейдет к турку [101]!
Не ожидал Гвинтовка от своего зятя такого резкого ответа; не сказал однако ж ничего и, будто ни в чем не бывало, повел своего гостя осматривать хозяйство. С гордостью показывал он Череваню свои наполненные хлебом гумна, свои овчарни, свои мельницы, и табуны лошадей, гулявших по лугу за хутором.
Черевань дивился богатству Гвинтовки, однакож подумал: «У меня нет ни таких лесов, ни таких широких лугов, да за то ни один киевский мещанин не поглядит косо на Хмарище».
Воротясь к обеду, застали на дворе нежинского сотника, Гордия Костомару.
— Что ты тут, пан есаул, дома делаешь? так начал беседу нежинский сотник. Там в городе беда творится!
— Что ж там за беда у вас творится? сказал хладнокровно Гвинтовка.
— Мещане пируют с казаками...
— Ну, бгат, вмешался Черевань, дай Бог и по век такой беды!
— Да постой, добродею! От чего и как пируют? Дрался на поединке сын пана Домонтовича с сыном нашего войта и убил войтенка наповал.
— Ну, и аминь ему! сказал Гвинтовка.
— Аминь! Нет, не скоро еще скажут аминь этому делу... Вот послушай-ка. Мещане выкатили на улицу бочки с пивом, с медом, с водкою, делают поминки по войтенку на весь крещеный мир, а казаки столпились как пчелы вокруг патоки, и зашумели так, что страшно и слушать: пьют да бранят на чем свет стоит панство и всю городовую старшину.
— Ну, пусть себе бранят.
— Пусть бранят! А это как тебе покажется, что все знатные люди, что съехались на раду, боятся выткнуть нос за ворота? Казаки толпами бродят по городу да буянят как бугаи в стаде; иные порываются грабить панские дворы.
— Что ж ваш полковой судья делает?
— Судья сам трусит. Страх хоть кого возьмет. Под эту суматоху, которая творится по случаю рады, всего можно ожидать.
— Чему быть, тому не миновать, сказал угрюмо Гвинтовка.
— Так значит тебе до этого нет надобности?
— А что ж я должен бы по твоему делать?
— Что делать? Ехать да усмирять казаков, пока еще не поздно.
— Вот тебе на! Усмиряй ему казаков, когда полковничий пернач у судьи!
— Да что ему в том перначе? Казаки и ухом не ведут. А тебя и без пернача послушаются. Поедем, ради Бога поедем!
— Послушаются, да не теперь! сказал Гвинтовка, подмигнувши как-то странно глазом. Будет время, когда они меня послушаются; а теперь, коли пернач не у меня, так я и не полковой старшина. Вот что! Пускай там себе хоть вверх ногами город поставят. Моя хата с краю, я ничего не знаю.
— Эге-ге-ге! сказал сквозь зубы сотник Гордий. Так видно правда тому, что добрые люди проговаривали... Пане есаул полковый! Побойся Бога! Мне кажется, что ты что-то недоброе против нашего пана полковника умышляешь!
— Пане сотник! отвечал смеясь Гвинтовка, побойся Бога! Мне кажется, что ты что-то недоброе против нас с зятем умышляешь! Вот обед на столе, а ты Бог знает какой разговор развел! Сядем-ка да подкрепимся, так, может быть, повеселеем.
Сел сотник Костомара за стол, но и пища ему в рот не йдёт. Его мучат страшные мысли. Он несколько раз пробовал окольными разговорами заставить Гвинтовку как-нибудь проговориться; но тот понимал его намерение, и всем его вопросам придавал шуточный смысл. Встревоженный и огорченный, сотник уехал ни с чем из хутора.
— Послушай, мой любый братику! отозвалась тогда Череваниха: — когда говорил ты с Костомарою, меня точно морозом обдало...
— Ось лихо! сказал Гвинтовка, обращая в шутку её слова. — Уж не сглазил ли тебя Костомара! У него, говорят, недобрые глаза: как посмотрит с завистью на коня, то и коню не сдобровать.