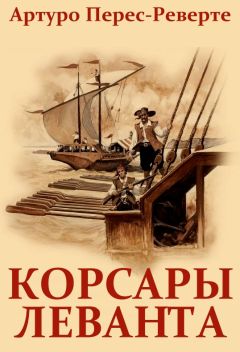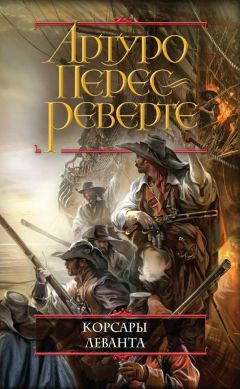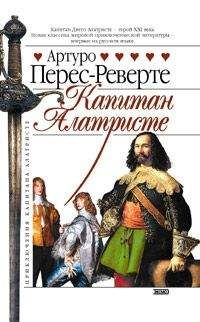Потом оглядел палубу. Капитан Алатристе уже проснулся: я видел издали, как он, прежде чем сложить свое одеяло, встряхнул его, а потом, перегнувшись через борт, зачерпнул бадьей на длинном шкерте морской воды — пресная у нас на галере была на вес золота — ополоснулся, тщательно вытер лицо тряпицей, чтобы соль не разъедала кожу. Вот он привалился спиной к брюканцу, достал из кармана сухарь, обмакнул его в кружку с вином — они с Себастьяном Копонсом никогда не выпивали свою порцию за раз, но делили пополам — и принялся жевать, уставившись в море. Тут заворочался и спавший поблизости Копонс: поднял голову, привстал — и Алатристе протянул ему кусок сухаря. Арагонец в молчании начал грызть его, свободной рукой выковыривая корки из углов глаз. Мой бывший хозяин поглядел по сторонам и, заметив, что я стою в кормовой части и наблюдаю за ним, отвернулся.
После неапольской, мягко говоря, размолвки мы почти не общались. Душа еще саднила от памятного нам обоим разговора, и мы избегали друг друга, благо я переселился в казарму на Монте-Кальварио, обосновался по соседству с Гурриато-мавром, избегая есть и пить в тех тратториях и остериях, куда захаживал Алатристе. Зато благодаря этим обстоятельствам я сблизился с могатасом, который — но уже не как вольнонаемный гребец, а как солдат, получающий четыре эскудо жалованья в месяц, — оставался в команде нашей «Мулатки», где мы с ним хлебали, можно сказать, из одного котелка и даже успели малость повоевать вместе, когда восточнее острова Милос наткнулись на кораблик с турецко-албанским экипажем и, опасаясь посадить нашу галеру на мель в проливе, подошли к ним на шлюпках и взяли на абордаж. Дело было не слишком громкое и скорее даже из разряда пустяковых, ибо в трюме не обнаружилось ничего путного, кроме необработанных шкур, однако же мы привели и посадили на весла двенадцать пленных, а сами не потеряли никого. В том бою, зная, что капитан Алатристе наблюдает за мной издали, я вскарабкался на борт турецкого корыта одним из первых — мавр следовал за мной — и постарался отличиться и не оплошать, так что не кто иной как ваш покорный перерезал шкоты, чтоб турки не вздумали уйти, а потом я же, прорвавшись сквозь копья и ятаганы команды — прямо надо сказать, при виде нас державшие их оробели и должного сопротивления не оказали, — к судовладельцу, и вонзил ему клинок в грудь столь удачно, что душа у него вылетела в тот самый миг, когда он открыл рот, чтобы попросить пощады… ну, или мне так показалось. С тем я и воротился на нашу галеру, снискав себе похвалы товарищей, напыжась от гордости, что твой павлин, и краем глаза посматривая на капитана Алатристе.
— Я так думаю, ты должен поговорить с ним, — сказал мне Гурриато.
Он уже проснулся и сейчас сидел рядом — борода всклокочена, лицо и бритая голова жирно блестят от пробившей во сне испарины.
— Зачем? Прощения просить?
— Не-е-а. — еле вымолвил он между зевками. — Я говорю — просто поговорить.
Я рассмеялся довольно злобно.
— Вот пусть сам приходит да разговаривает, если есть, о чем.
Гурриато сосредоточенно выковыривал грязь меж пальцев.
— Он дольше тебя прожил и больше понимает. И потому нужен тебе: он знает такое, о чем ни ты, ни я понятия не имеем. Уах. Клянусь, это так.
Я снова захохотал — теперь уже с довольным видом. Наглый, как петух в пять утра.
— Ошибаешься, мавр. Он уже не тот, что раньше.
— Раньше? А какой он был раньше?
— Раньше я смотрел на него, как на бога.
Гурриато воззрился на меня со своим обычным любопытством. К числу его особенностей, которые были мне почему-то особенно милы, принадлежало и умение к чему бы то ни было относиться с каким-то упорным интересом — даже к тому, что, на мой взгляд, внимания не заслуживало вовсе. Дело ему было до всего на свете — и из чего состоит зернышко пороха и как устроено человеческое сердце. Он спрашивал, получал ответ и тотчас оспаривал его, если тот казался ему неполным или сомнительным, и не ведал при этом ни стеснения, ни робости. Сталкиваясь с невежеством или глупостью, мавр ни на миг не терял спокойствия и бесконечного терпения, свойственного человеку, решившему познать все и всех. Жизнь выводит свои письмена на каждой вещи и каждом слове, не раз слышал я от него по разным поводам, и тот, кто сознает свою пользу, старается в молчании прочесть их и постичь. Не правда ли, занятное мировоззрение или умозаключение, особенно — для могатаса, который не умеет ни читать, ни писать, однако знает испанский, турецкий, арабский, не говоря уж про средиземноморскую лингва-франку, и которому хватило нескольких недель в Неаполе, чтобы начать вполне пристойно объясняться по-итальянски?
— А сейчас, значит, он больше не кажется тебе богом?
Гурриато продолжал очень внимательно глядеть на меня. Я, повернувшись лицом к морю, неопределенно развел руками. Первые лучи солнца ударили нам в глаза.
— Сейчас я вижу в нем то, чего не замечал раньше, и не замечаю того, что было.
Он покачал головой, едва ли не оскорбившись. Мавр со своей спокойно-безмятежной покорностью судьбе был единственной ниточкой, связывавшей капитана Алатристе и меня — ну, не считая, понятно, обязанностей по службе. Единственной — потому что грубоватый и незамысловатый арагонец Копонс не обладал душевной тонкостью, нужной для того, чтобы наладить или хотя бы улучшить наши с капитаном отношения, и его неуклюжие попытки помирить нас наталкивались на мое ребяческое упрямство. А вот Гурриато-мавр, хоть был не просвещенней Копонса, неизмеримо превосходил его проницательностью и даром понимания. Он постиг мою душу и проявлял безмерное терпение, а потому умудрялся незаметно и сдержанно оставаться связующим звеном меж капитаном и мною, причем казалось порою, что посредничество это воспринимал как способ уплатить Алатристе — или мне? — часть того долга, который в силу странного устройства своего разума числил за собой со дня памятного набега на становище Уад-Беррух — и будет числить всю жизнь, до самого сражения при Нордлингене.
— Такой человек заслуживает уважения, — вымолвил он наконец, будто подводя итог длительных размышлений.
— А я, что ли, нет?
— Элькхадар, — со всегдашним фатализмом пожал он плечами. — Судьба. Время покажет.
Я стукнул кулаком по лееру.
— Я не вчера родился, мавр! Я такой же мужчина и идальго, как и он!
Гурриато провел ладонью по голому черепу, который он каждый день, смочив морской водой, брил остро отточенным ножом, и пробормотал:
— Ну, разумеется, идальго.
И улыбнулся. Темные, почти по-женски томные глаза засияли не хуже серебряных серег в ушах.