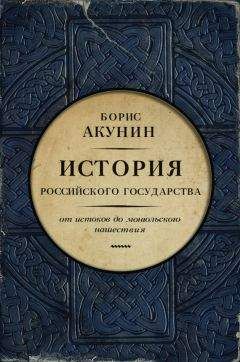с Ярополком, бежал их зять Глеб, и были поодиночке настигнуты, уловлены, в град Владимир доставлены, в глухие порубы посажены. Оттуда, из безоконных темниц, их ныне и привели в гридницу, ради судьбы решения.
Жизнь пленников висела на волоске. Поэтому голос Ефросиньи дрожал от страха, срывался.
– Всеволодушко, ведь мы родные тебе, от одного деда взращенные! Мало ли что между своими бывает? Ну, побранились, подрались – дело обычное, княжеское. Неужто возьмешь смертный грех на душу? Неужто обагришься братоубийством? Неужто обездолишь меня, горемычную, истребишь моих братьев и мужа? Я ль тебя малюткой в колыбели не качивала? Я ль тебе на день ангела гостинцев не нашивала?
Великий князь именинных гостинцев не помнил, тем более качания в колыбели, но и первое, и второе было очень возможно. Ефросинья, даром что племянница, годилась ему в матери.
Всеволод вздыхал. Слушать женкин плач было тягостно. Ефросинья еще и спустила с головы сребротканую кику, приготовилась к большому рыданию – рвать на себе волосы. Смотреть на ее срамное простоволосие было жалостно.
– Ой, лихо мне бедной, ой томно! – видя на лице Всеволода сочувствие, перешла на вой княгиня, да осеклась, съежилась.
Снаружи, на площади грянул многоголосый рев, будто зарычало сонмище разъяренных медведей.
Старый конюх стукнул кулачищем по столу.
– С неба ты что ли свалилась, баба? – рявкнул он так зычно, что заглушил шум площади.
Онисим был человек грубый, из женского пола уважал только многоплодных кобылиц.
– Иль оглохла? – Он показал на узорчатое окно. – Слышишь, что народ кричит?
Разобрать, что кричит народ, было нельзя, но догадаться нетрудно. Под стенами княжеского терема собрался весь город Владимир – требовать расправы над ненавистными Ростиславичами. Орали люто, того гляди ворота вышибут.
– Сама ты, дура, и виновата! – ругался на притихшую Ефросинью конюх. – Чего ты сюда приперлась? Да еще явно, у людей на виду. Весь улей переполошила. Теперь на себя пеняй!
Это было правдой. Вчера вечером кто-то видел, как рязанская княгиня со слугами въезжает в город. Догадаться, зачем пожаловала, нетрудно – будет просить за пленников. За ночь слух облетел все улицы, и утром в детинце собралось скопище. У владимирцев на Ростиславичей зла накопилось много. Два года назад, севши княжить в городе, Ярополк здешних людей сильно примучивал. Мстислав прошлой зимой велел владимирских послов до смерти убить. Глеб Рязанский в шесть тыщ шестьсот восемьдесят втором всё здесь разграбил, а пресвятую Богоматери икону, владимирскую заступницу, из храма кощунственно вынес и с собой увез.
Горожане хотели всех троих сразу после пленения разорвать, насилу Всеволод отбил. Пообещал судить суровым судом – не по милостивой Ярославовой «Правде», а по старинному дедовскому обычаю, который за великие злодейства карает смертью.
Приезд рязанской княгини владимирцев опять перебаламутил, и хоть не хотелось Всеволоду проливать родственную кровь, а куда деваться? Вся власть великого князя стояла на поддержке владимирцев. Прежние владетели, кто с городом ссорился, здесь не усиживали. И на дружину надежды не было. Воины почти все местные, владимирские, не станут на своих мечи поднимать. За князя твердо, до конца, стояли только Лавр с Онисимом, потому и были на совет призваны. Хотя какой от них толстолобых совет? Верность – не мудрость.
Великий князь посмотрел на многоумного Фотия, но грек безмолвствовал, а может, в самом деле задремал. Он был старый.
– П-приговор мой будет т-такой, – сказал Всеволод, повернувшись к пленникам и заикаясь сильнее обычного. – Отпущу вас, если ты, Глеб, с рязанского с-стола уйдешь, а вы двое поцелуете к-крест признать мое великокняжество, впредь мне не супротивничать и в мои земли никогда не являться.
– Поцелую крест, поцелую! – сразу сказал Ярополк, в ужасе косясь на окна.
Мстислав сдвинул мохнатые брови, кивнул.
Но Глеб замотал головой – яростно, даже борода качнулась.
– Я от своей отчины не отступлюсь! Помру – так князем!
– Опомнись, Глебушко! – взмолилась жена. – И княжества лишишься, и жизни! Обо мне, о детках подумай!
– Лучше помру, а побитой собакой, поджавши хвост, не уеду! – отрезал Глеб.
Он был муж великой крепости и столь же великого упрямства, хотя сии два свойства суть одно и то же.
Ефросинья хорошо знала своего супруга и больше его упрашивать не стала. Едучи во Владимир за милосердием, она знала, что непреклонного Глеба не вызволит, надеялась спасти хоть братьев.
– Коли так, тебе тут быть б-боле незачем, – нахмурясь, сказал Всеволод. – Толпе на расправу тебя не выдам, это моей власти з-зазорно, но и воли тебе не видать. Эй! – оборотясь к дверям, хлопнул в ладони. – Уведите его назад в поруб!
Уже стоя меж двух гридней, Глеб плюнул на пол – под скамью, где остались Мстислав с Ярополком.
– Тьфу на вас, слизни!
Жене кинул:
– А ты не вой, не срамись перед ним, щенком!
Вышел прямой, несгибаемый, налитый яростью.
Без него сразу стало воздушней.
– Ну, пойду с владимирцами г-говорить. – Всеволод поднялся. – Молитесь, чтоб сладилось.
* * *
Выборные от горожан ждали в парадных сенях. От восточного Ветшаного конца был всеми уважаемый каменный мастер Шкирят, срединная Печерняя часть прислала рыночного старосту Конона, от западной Новогродской представительствовал тароватый купец Сушата. Каждого Всеволод знал, с каждым один на один сговорился бы, но вместе они были как «тригоно» – жесткая фигура о трех углах, которую, согласно науке геометрии, не согнешь.
– Выдаешь супостатов, княже? – спросил Сушата, едва разогнувшись после поклона, не шибко низкого.
Заговаривать с великим князем первому, да еще задавать вопросы было охальством. Это купчина хорохорился перед остальными.
Он и еще спросил, вовсе неподобное:
– А она тут зачем?
Да пальцем ткнул Всеволоду за спину, бесцеремонно.
Оказывается, Ефросинья последовала за дядей. Хотела знать, чем кончатся переговоры, от которых зависела жизнь близких.
Под враждебным взглядом владимирцев княгиня, стоявшая в дверях, лишь смиренно перекрестилась.
Исихократия учит, что всякое деяние достигается правильным чередованием «воды» и «камня», сиречь мягкости и твердости. Тот, кто знает, когда время мягко обтекать, а когда – стоять твердой стеной, всегда победит.
Сейчас надо было мягко.
– Она жена и с-сестра, ей трепетно, – увещевательно молвил Всеволод. – Чай и у вас жены с сестрами есть.
И столь же шелково, раздумчиво объявил свой приговор: Глеба Рязанского вовек держать в темнице, а с племянников взять крестное целование под страхом погубления души и навсегда изгнать из владимирских пределов.
Выборные переглянулись.
– Нет, – коротко сказал малословный каменщик.
– Этак не сладимся, – чуть длиннее ответствовал рыночный староста.
Бойкий Сушата подбоченился:
– Гляди, княже, ты у нас во Владимире недавно сел. Да надолго ли?
Угрозу от подданного государю сносить нельзя, это опасно. Настало время явить твердость.
– Я Святополком Окаянным, пролившим кровь своих б-братьев, не стану, – сдвинул брови Всеволод. –