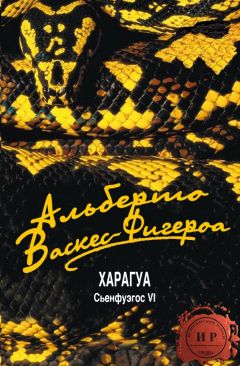— Он был цельной личностью. И, должно быть, глубоко страдал, потеряв ее любовь. И я его понимаю: потерять Ингрид — еще хуже, чем потерять собственную жизнь, можешь мне поверить.
— Никакой любви к ней в нем давно уже не осталось — одна лишь ненависть, разочарование, уязвленное самолюбие, — хромой был поистине беспощаден к убитому, не в силах простить того, что по его милости они лишились прекрасной жизни в Санто-Доминго. — Я просил тебя забыть о нем, пока он был жив, и теперь умоляю забыть о мертвеце. Если и был на свете человек, который поистине напрашивался на то, чтобы его убили, то это он, и нечего о нем жалеть.
— Ты так говоришь, потому что не ты размозжил ему голову, как гнилой кокос.
— У меня просто не было такой возможности, — нисколько не смущаясь, признался Бонифасио. — Но я бы сделал это, можешь не сомневаться, и совесть бы меня не мучила. Мы живем в трудные времена. Море за один миг проглатывает тысячу человек, а друзья ежедневно гибнут из-за войн, лихорадки и укусов ядовитых змей, — он раздраженно цокнул языком. — Да и тебе самому грозит виселица, если задержишься на острове дольше чем на месяц. Так что перестань переживать из-за этого человека, от которого столько лет мечтал избавиться.
Сьенфуэгос и сам был бы рад стереть из памяти то роковое утро, когда ему пришлось до смерти забить человека палкой, но несмотря на все невзгоды и испытания, пережитые за эти страшные годы, в душе он по-прежнему оставался тем же бесхитростным пареньком, что когда-то давно впервые встретил Ингрид, купаясь обнаженным в лесном озере на Гомере, и что бы ни говорил Бонифасио, факт оставался фактом: он убил человека, и ничего с этим не поделаешь.
Вскоре они снова тронулись в путь и к этой теме больше не возвращались, благо вскоре начались горы, чуть позже сменившись заболоченной сельвой, превратившей путешествие в настоящую пытку, особенно для Бонифасио Кабреры, не привыкшего к долгим переходам. А потому, едва они остановились под деревом на ночлег, он без сил рухнул на землю, закрыл глаза и не открывал их до тех пор, пока зеленоватый утренний свет не пробился сквозь густую листву.
Затем пошел дождь — густой, теплый и грязный, превративший непроходимые джунгли в душную баню, смывший все следы. В лесу исчезли все тропинки, проложенные дикарями. Идти было все труднее, особенно хромому Бонифасио, и Сьенфуэгос начал всерьез беспокоиться о физическом и душевном здоровье друга детства.
Дождь вскоре стал настоящим потопом, миллионы капель воды плюхались на миллионы широких влажных листьев, этот звук притуплял все чувства, оставляя лишь одно желание — чтобы этот грохот наконец прекратился.
Харагуа находилось на западе, но высокие деревья и густые тучи закрывали солнце, и даже такой привыкший к сельве человек, как Сьенфуэгос, начал терять ориентацию.
Не оставалось никаких сомнений: они заблудились.
Эта мысль казалась нелепой и даже смешной, но в мире из грязи, тысяч одинаковых деревьев и неба, похожего на темное пятно, даже почтовый голубь мог бы сбиться с пути.
Бонифасио Кабрера бредил.
Вокруг стояла изнуряющая жара, но хромой дрожал и стучал зубами в лихорадке. Он впал в беспамятство и не мог ни шагу, так что измученному Сьенфуэгосу пришлось тащить его на себе.
Ноги канарца под двойной тяжестью увязали по щиколотку в болотной грязи, из-за чего пройти несколько сот метров стоило неимоверных усилий.
С каждой минутой он все больше терял чувство реальности и даже чувство времени.
Если ему удавалось обнаружить упавшее дерево или кусок незаболоченной земли, он проводил долгие часы, лежа рядом с бесчувственным Бонифасио Кабрерой, и медленно жевал длинные полоски вяленого мяса. Но даже в эти минуты отдыха ему не удавалось привести в порядок мысли, словно жара и невыносимый шум дождя не давали сосредоточиться на самых простых вещах.
На третий день он увидел какой-то блеск среди кустов, бросился туда — и в ужасе застыл, обнаружив свой потерянный кинжал. Получается, все это время он ходил по кругу.
Север, юг, восток, запад — стороны света перемешались у него в голове, и он был не в силах понять, в каком направлении движется и точно ли идет по прямой. Ему отчаянно не хватало той самой «морской иглы», помогающей кораблям держать курс, о которой мастер Хуан де ла Коса рассказывал, что она непостижимым образом всегда указывает на север.
Будь у него одна из этих игл — возможно, он и нашел бы выход из этого запутанного лабиринта; но здесь, внизу, у подножия пятидесятиметровых деревьев, чьи огромные кроны терялись в облаках, словно тонули в рыхлой и вязкой вате, не было никакой возможности определить стороны света, и не стоило даже пытаться идти в определенном направлении.
К полуночи дождь прекратился, и шум сменился мертвой тишиной, однако рассвет выдался столь же непроглядным, и сквозь густую пелену облаков невозможно было разглядеть солнце.
Хромой стал мертвым грузом, который все еще дышал, и Сьенфуэгос не мог избавиться от ощущения, что если они не выберутся отсюда как можно скорей, его другу недолго останется дышать.
Очень скоро Сьенфуэгос пришел к печальному выводу, что бессмысленно куда-то идти, он лишь будет бесконечно бродить по кругу, пока не свалится без сил.
Он понимал, что сейчас самое главное — любой ценой сохранить присутствие духа, не позволить отчаянию свести с ума. Отчаяние — это самый страшный враг всех, кто пересекает сельву. Раз у него достаточно пищи и воды, нет причин позволять страху завладеть разумом.
Он вспомнил своего старого учителя Папепака — туземца, знавшего джунгли, как никто другой — и постарался представить, как бы он повел себя в таких сложных обстоятельствах; хотя и так понятно, что Папепак никогда не оказался бы в подобной ситуации, ведь он всегда знал, где именно находится и куда направляется.
Канарец огляделся в поисках любых деталей, позволивших бы получить хоть какую-то полезную информацию, но видел вокруг только густую растительность, а наверху — пестрых попугаев, зеленых ящериц и темных обезьян, прыгающих с ветки на ветку.
Попугаи перекрикивались или бесцельно порхали, обезьяны суетились и искали друг у друга блох, а крупные ящерицы неподвижно застыли, прижимаясь к грубым и толстым тридцатиметровым стволам.
На земле остались только лягушки и змеи, а сверху просачивался всё такой же свет, неизменный и не отбрасывающий тени, которая позволила бы понять, где утром или вечером находится солнце.
Бонифасио Кабрера на миг открыл глаза и посмотрел на Сьенфуэгоса невидящим взглядом.
Лихорадка усиливалась.
Так прошли долгие часы.