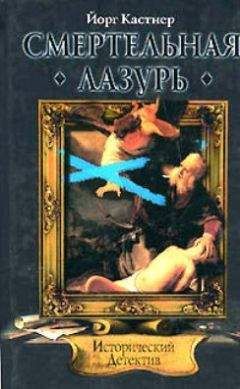– Помню! – медленно проговорил гость, приближаясь к Эббо. – Ах, молодой человек! Твой брат парит теперь еще выше! Не сдерживай своих слез, не стесняйся моим присутствием. Разве я не знаю, как это больно, когда те, которые слишком хороши для земной жизни, уносятся в другой мир и оставляют нас в одиночестве?
Эббо посмотрел сквозь слезы на благородное лицо гостя, нагнувшегося к нему.
– Я не стану утешать тебя советом забыть прошлое, – продолжал Тейерданк. – Я был немногим старше тебя, когда было надломлено и мое существование… и до последнего часа моей жизни горе это будет моей славой и моей скорбью! У меня не было брата но, я думаю, что наша взаимная привязанность была беспредельна.
– Мы были так тесно связаны, что с потерей его, я словно лишился правой руки. Я очень рад, что не могу вернуться к моему прежнему образу жизни, и должен посвятить себя прежде всего, поискам отца.
– Не торопись слишком в этом деле, – сказал Тейерданк, – чтобы неверные не имели в своей власти двух баранов, вместо одного! Составил ли ты себе какой план?
Эббо пояснил, что он намеревался отправиться в Геную и посоветоваться там с купцом Жан Батиста деи Батисти, произведшего такое глубокое впечатление на Фриделя описанием немецкого пленника.
Тейерданк одобрил этот план, так как генуэзцы поддерживали торговые сношения с обоими мусульманскими племенами в Триполи и Константинополе; к тому же, обмен пленных был вещью весьма возможной, потому что оба племени вели между собой торговлю, если кому-нибудь из них удавалось сделать особенно удачный набег.
– Какой позор, – воскликнул Тейерданк, – что эти басурманы покоряют безнаказанно лучшие страны мира, между тем, как наше дворянство довольствуется остатками, жадно вырываемыми друг у друга, и остается глухим к голосу неба и земли. И не стряхнут они с себя этой апатии, пока враг не очутится у их ворот! Но ты, Адлерштейн, ты вернешься ко мне, когда исполнишь свое благородное предприятие. У тебя ум и сердце на месте, и ты понимаешь весь позор и все несчастье своих ослепленных соотечественников.
– Надеюсь, сеньор, – сказал Эббо. – Признаюсь, я сильно пострадал за то, что преследовал свои личные цели, вместо того, чтобы присоединиться к крестовому походу.
– Это не был намек с моей стороны, – ласково проговорил Тейерданк. – Твой мост – это дело даже более выгодное для меня, чем для тебя. Говоришь ли ты по-итальянски? В твоем взгляде есть что-то итальянское.
– Мать моей матери была итальянка, но я не знаю итальянского языка.
– Тебе следует научиться ему: это было бы приятным препровождением времени, пока ты лежишь в постели, и принесло бы тебе несомненную пользу при твоих сношениях с мусульманами. Впрочем, у меня найдется, быть может, для тебя дело в Италии. Не нуждаешься ли ты в книгах? У меня есть хроника Карла Великого и его паладинов, написанная Пулчи и Боиардо, храбрым губернатором Реджио, вполне достойным воспевать подвиги героев. Не хочешь ли прочесть ее?
– Когда нас было двое, мы любили беседовать о рыцарских подвигах.
– А, может быть, ты предпочтешь мрачного флорентийца, исследовавшего все три царства смерти? Он почти понятен; но я люблю его из любви к его Беатриче, его путеводительнице. Дай Бог и тебе найти такую же путеводительницу!
– Я слышал о нем, – сказал Эббо. – Если бы он мог указать мне местопребывание моего Фриделя, то а прочел бы его с жадностью.
– Быть может, ты предпочитаешь божественного Петрарку? Ты, правда, слишком молод, чтобы прочувствовать печальные звуки его стихов, но они отрадны для надломленного сердца.
И он стал декламировать стихи на смерть Лауры, с их певучим итальянским акцентом.
«Она не бледна, но тем не менее она белее свежего снега, устилающего косогор. Спокойствие завладело этим влажным и хрупким телом. Сладкий сон сомкнул чудные очи…» – Ах, – прибавил он, говоря сам с собой, – мне все кажется, будто поэт просиживал ночи в той комнате в Генте.[1]
Таким образом продолжался разговор, касаясь то поэзии и книг, то прекрасных картин, развешанных по стенам комнаты, то великих архитектурных проектов и т. д.; казалось, что в области искусства и науки не было ничего незнакомого для Тейерданка, или такого, что не вызвало бы в нем воспоминаний о прежней жизни.
Он был так ласков, так внимателен, что начало свидания имело невыразимую прелесть для Эббо; но, мало-помалу, он стал тяготиться им, так как должен был следить с величайшим вниманием за беседой гостя, который знал очевидно, что он узнан, но не хотел быть признан.
Эббо стал ждать какого-нибудь перерыва; но, хотя погода и прояснилась, ему было невозможно намекнуть какому бы то ни было гостю, а тем более такому, что теперь можно пуститься в путь. С другой стороны, удовольствие, испытываемое Тейерданком во время этой беседы, заставило его забыть о слабости молодого барона.
Наконец наступил перерыв. Около двенадцати часов кто-то постучался в дверь, и в комнату вошел Гейнц в сопровождении трех других вооруженных ландскнехтов.
– Что это значит? – спросил Эббо.
– Успокойтесь, сеньор барон, – сказал Гейнц, становясь между кроватью Эббо и незнакомым охотником. – Вы не знаете, что тут происходит, а мы не хотим лишиться вас, как лишились вашего брата. Мы желаем знать, не заблагорассудится ли этому рыцарю быть нашим заложником, вместо того, чтобы открывать доступ в этот замок, как изменник и шпион. Хватай его, Коппель! Ты имеешь на это полное право.
– Назад! Берегитесь! – вскричал Эббо тем твердым и решительным голосом, которым он еще в юных летах подчинял себе людей.
Тейерданк продолжал стоять, улыбаясь, и как бы потешаясь замешательством молодого хозяина.
– Извините, сеньор барон, – сказал Гейнц, – но вас это вовсе не касается. Пока вы не в состоянии защищать себя и вашу матушку, до тех пор это не ваше дело.
Пока говорил Гейнц, в комнату вошла, совсем запыхавшись, Христина, и бросилась к своему сыну.
– Сеньор граф, – сказала она, – разве хорошо, разве честно так платить моему сыну за его гостеприимство, особенно в его теперешнем положении?
– Матушка! Разве вы тоже лишились рассудка! – вскрикнул Эббо. – Что означает эта глупая шутка?
– Увы, сын мой, это не шутка. Вооруженные люди взбираются по «Орлиной лестнице» с одной стороны, и проходят ущелье Гемсбока с другой.
– Да, милостивая государыня, но они не тронут и волоса с вашей головы, – сказал Гейнц. – Мы бросим им с вершины башни труп этого человека. За дело, Коппель!
– Стой, Коппель! – крикнул Эббо громовым голосом. – Разве вы хотите запятнать мою честь? Если бы он соединял в себе всех Шлангенвальдов до одного, то и тогда он ушел бы отсюда также свободно, как и пришел. Но он такой же Шлангенвальд, как и я сам!