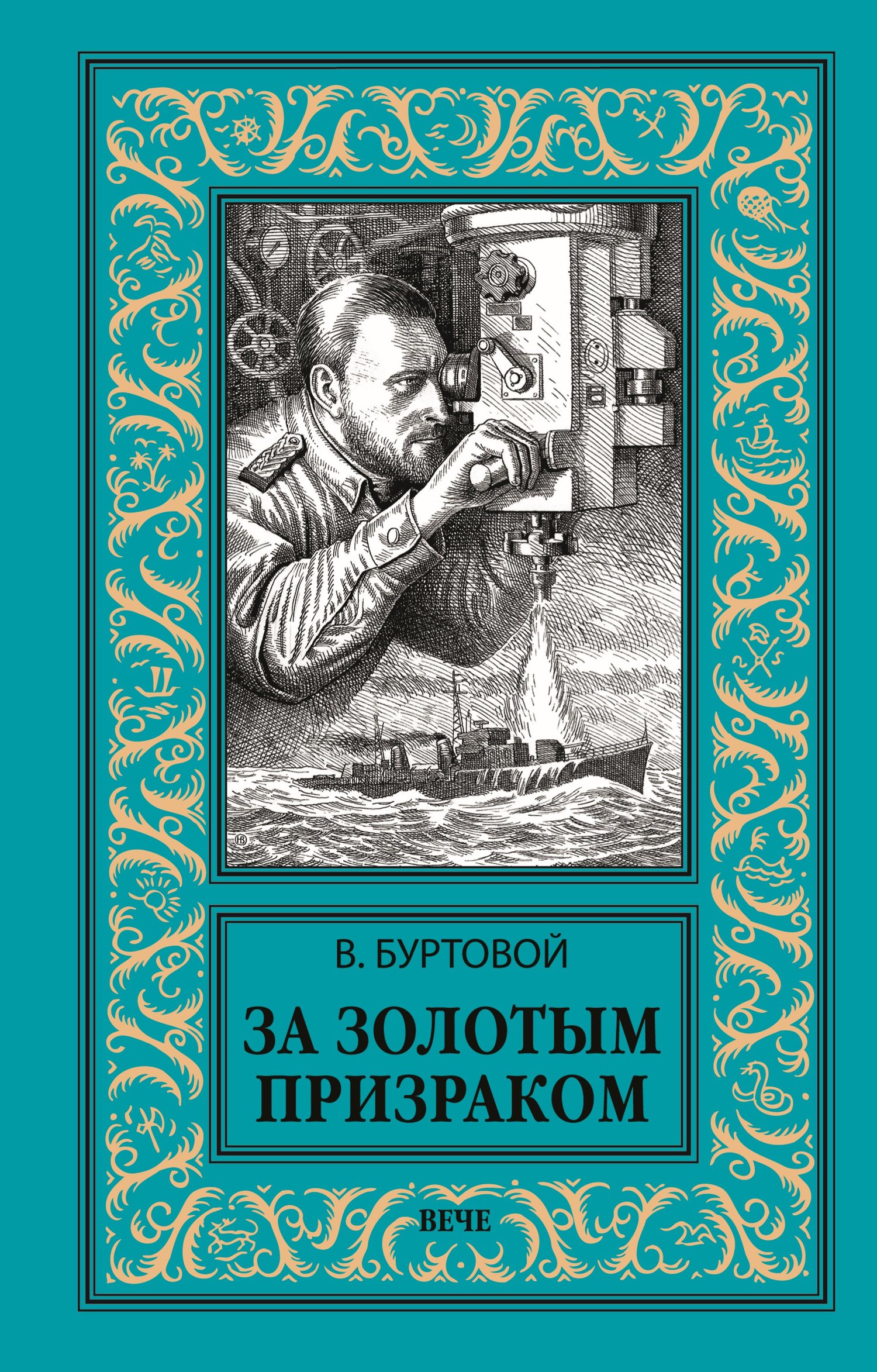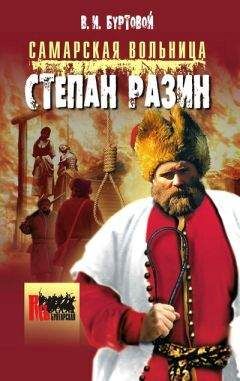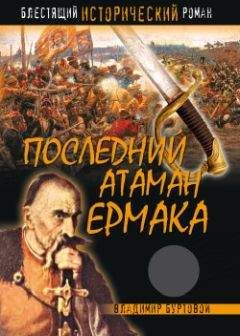наскочило на место их ночевки. Главное – спасти девушку, за судьбу которой она ответственна не только перед князем Милославским, но и перед Богом!
У толстого ствола вековой сосны два драгуна крутили руки девушке, а третий то закрывал ей рот грубой ладонью, то нетерпеливо, с треском, рвал на ней мужской наряд, выкрикивая сбивчиво:
– А вот мы поглядим, каков тут мужичишка… с такими-то пышными грудями! Поглядим, не сгодится ли лебедушка к нашему столу, в свежем виде! Дьявол, не кусайся, холопка беглая, прибью!
Оружие драгун – три пики валялись в стороне от сосны, до них хозяевам не враз-то протянуть руки…
– Луша-а! – закричала обезумевшая от страха девушка, сообразив, что задумали сотворить с ней трое грубых мужчин, давно оставивших своих жен неведомо в каких городах и весях…
Княжна Лукерья выхватила пистоли, мельком убедилась, что они готовы к стрельбе, вмиг очутилась рядом и с десяти шагов без промаха выстрелила раз за разом. Эта пальба почти в упор для драгун была столь неожиданной, что двое выпустили девушку и опрокинулись по обе стороны, корчась в судорогах на вспаханной ногами хвойной подстилке, а третий, окаменев от сознания, что ему тоже суждено поплатиться за свой постыдный поступок, продолжал держать в стиснутых пальцах правой руки край разорванной рубахи девушки, отчего пышная грудь Дуняши, что называется, увидела божий свет среди белого дня, который, правда, еще только начинался.
– Господи, прости! Господи, прости, бес попутал, ни в жизнь более… – залепетал, крестясь, третий драгун. Шикарные усы задергались в нервном тике, а только что пылавшие румянцем щеки стали покрываться мертвенной желтизной.
– Не простит, мерзкий насильник! Ты хуже Батыевых татар, которые врывались в русские поселения! Так на татарине не было креста православного, а у тебя он на шее висит! Прими смерть по делам своим! – Третий выстрел грянул так громко, что Дуняша невольно схватилась за голову, а ее широко раскрытые глаза в изумлении смотрели на княжну Лукерью, которая в этот страшный миг была так похожа на богиню возмездия…
Неподалеку с привязи рвались три перепуганных коня под седлами. Всхрапывая, они пятились от дерева, косились на людей, занятых непонятными для них делами.
– Дуняша, можешь держаться в седле? – живо спросила княжна, видя, что испуг почти прошел и она вот-вот бросится ей в ноги благодарить за избавление от страшного позора.
– Могу, княжна Луша! В деревне доводилось ездить…
– Вот и славно. Садись в седло вороного, а я на белом поеду. И третьего коня прихватим. Да, чуть не забыла – драгунские пистоли и сабли забрать надо, перед сражением не лишние будут!
Пистоли драгун торчали в приседельных карманах, пояса с саблями княжна сняла быстро, стараясь не испачкать руки о кровь, которая текла у одного из груди, а у другого, с черными кудрями, сквозь пальцы, которыми он зажимал рану на правом боку. Встретившись глазами с княжной, драгун сквозь гримасы боли хрипло выговорил, стараясь придать лицу менее страдальческое выражение – не хотелось выказывать перед женщиной свой страх умереть вот так, в диком лесу и без отходной молитвы священника:
– Будешь добивать? Тогда поспеши, а то сами помрем…
Княжна Лукерья брезгливо скривила губы, не сочла нужным что-то говорить с извергом, пошла к белому коню.
– Поехали с Богом от этого чертова логова! Как бы другой дозор не наскочил, ежели мои выстрелы слышны были на тракте.
– А эти… двое? Они еще живы, вона как корчатся, – напомнила сердобольная Дуняша, глазами указывая на двух драгун, которые со стоном ползали по опавшей листве и иголкам сосны у дерева, справедливо ожидая еще одного, смертельного удара саблей по голове.
– Тебе их уже жаль? – без удивления спросила княжна, отлично понимая состояние души у девицы: саму спасли от позорной смерти, и она уже готова простить насильникам их проступок. – Они бы, поиздевавшись над тобой, непременно лишили бы жизни, чтобы не всплыл позор их деяний. Подлым людишкам по делам и награда… Пусть Господь теперь сам их жизнями распорядится, как сочтет нужным. Давай помогу в седло сесть! – негромко высказалась княжна, посадила девицу на коня и сама вскочила в чужое седло легко и привычно.
Разобрав поводья, не оборачиваясь на тех, кому оставалось счастливого случая ждать у сосны в надежде, что их довольно скоро найдут и отвезут к лекарю, быстро двинулись лесом на запад, убоявшись выходить на тракт из-за возможной погони: исчезновение княжны Лукерьи и ее служанки из воинского лагеря вместе с доверенным человеком воеводы князя Милославского не могло не вызвать тревоги у князя Борятинского, а стало быть, и скорого розыска по всей округе.
– Позволь, княжна Луша, я каурого коня моему Данилушке подарю? – спросила Дуняша, когда от страшного места стычки с драгунами отъехали с версту и на щеках девицы вновь заиграл румянец молодости и здоровья. – Вдруг он в войске атамана да без коня?
– Конечно подари, – охотно ответила княжна Лукерья, и в ее сине-серых глазах засветился озорной огонек. – Только поначалу давай переоденем на тебе одежду, а то все казаки с ума посходят, увидев твою почти голую грудь, – засмеялась она, заметив смущение служанки. – Было отчего несчастным драгунам голову потерять, узревши такой соблазн!
Дуняша застеснялась, потом так же, с улыбкой, отозвалась на шутку своей госпожи-избавительницы:
– Я чуть рассудка не лишилась, когда эти дьяволы из леса выметнулись! Даже и теперь будто мороз кожу дерет, как вспомню их вытаращенные от удивления глаза – девица в лесу и одна! Кричали мне: «Холопка беглая!» Думала, тут мне и погибель…
– На то воля Божья была, чтобы я успела, – задумчиво проговорила княжна, а через час лес неожиданно оборвался и впереди открылась широкая пойма реки Урень, крепостные строения Уреньского городка и оба войска вдали, готовые к сражению.
– Миша, братка, вставай! – голос верного друга Ибрагима разом прогнал чуткий сон, в котором он – вот уже в который раз! – осторожно ступает по гулким коридорам просторного терема князя и воеводы Милославского, отыскивая, в какой именно горнице содержится под крепкими запорами его милая Луша. И всякий раз, кем-то разбуженный, не может хотя бы во сне отыскать и обнять невенчанную жену.
– Что, уже пора? – Михаил Хомутов поднялся, шелестя сухой соломой, на которой спал как убитый, хотя и видел тревожный сон, привычно отыскал у бока шапку, пояс с саблей, два заряженных пистоля. Над ним высился Ибрагим, темноволосый, щеки выбриты до синевы, в темно-карих глазах – тревога, какая бывает у ратных людей перед сражением, победить в котором не так уж много возможности: малообученное войско восставших против регулярных полков воеводы Борятинского.