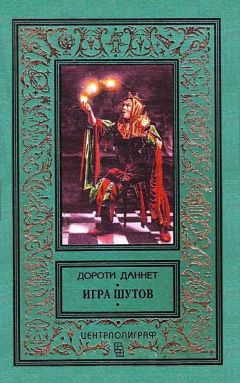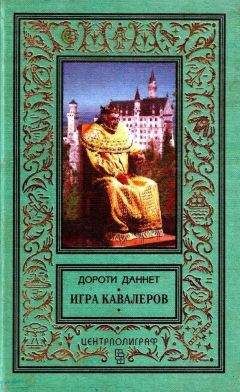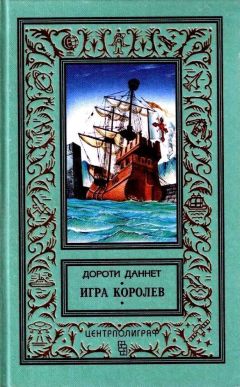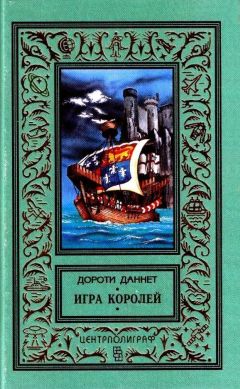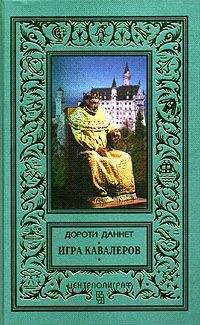— И кто эти люди? Бывают ли такие вообще? Видела ты хотя бы одного?
Внезапный румянец залил ее щеки, и глаза сверкнули, как два прозрачных, серо-зеленых родничка. Она сказала:
— Ты перерезал горло Луадхас ради королевы, которая всего лишь безмозглая девчонка, к тому же иностранка. Разве твой собственный народ ты ценишь меньше?
Склонив голову набок, положив руки на колени, он поигрывал толстыми, неловкими пальцами.
— Ну, начнем с того, что шерифы, хотя и служат английской короне, от этого все же не становятся гепардами.
Приподнявшись на локте, Уна прислонилась к валуну, на котором сидел О'Лайам-Роу. Запрокинув голову, она взглянула на принца, и выражение ее лица отнюдь не казалось враждебным.
— Ты сочувствуешь человеку, которого можешь видеть; народа ты разглядеть не можешь.
— Возможно, ты права, — согласился О'Лайам-Роу. Другого ответа он просто не смог найти. Голова Уны покоилась на камне, совсем близко от него. Протянув руку, он мог бы коснуться ее теплых, густых, иссиня-черных волос. Но вместо этого он попытался исправить свой ответ. — Я никак не могу, например, сочувствовать французскому королевству. Сними с него листик за листиком, как с артишока — музыку, статуи, картины и дворцы, — и в самой сердцевине найдешь болотную гниль: наследственный парламент и абсолютизм, бессловесные Генеральные Штаты 58), драконовские налоги, взятки, фаворитизм. Атмосфера в Англии не столь изысканная, но, на мой взгляд, более здоровая.
Она отозвалась лениво:
— Не обманывайся, Филим О'Лайам-Роу, и не пытайся обмануть меня. Пусть даже вечная ночь и безмерный хаос окружат тебя — ты все так же будешь ковырять кочергой в камине и выстраивать теории, пока кровь не закипит у тебя в жилах. Если тебе не нравится здесь, зачем оставаться? Уезжай в свой Слив-Блум, в свое заросшее вереском захолустье, где шерифы короля Эдуарда проходят мимо тебя, как мимо пустого места. И Баллаха забирай с собой. И если у тебя появится новый хозяин, тебе уж наверное кто-нибудь сообщит.
На этот раз во взгляде О'Лайам-Роу нельзя было прочесть ничего. Он сказал:
— Кажется, я никогда не говорил, что мне надоела Франция. Но я сказал тебе однажды, почему хочу остаться… И задал тебе вопрос, но нас прервали.
— Тогда задай его еще раз, — сказала Уна.
Наступило долгое молчание. На шее О'Лайам-Роу, под тонкой, как у ребенка, кожей, трепетала жилка, но внешне он оставался совершенно спокоен. «Может, все-таки я нравлюсь тебе; может, все-таки ты меня любишь?» — спросил он той ночью в особняке Мутье.
— Если бы мне снова было пятнадцать, — сказал он, — я бы так и поступил. Но теперь я знаю ответ.
— Неужто знаешь? — осведомилась Уна. — Тогда, вероятно, ты должен знать, что ты не одинок в своих взглядах относительно артишока.
Чуть нагнув голову, он мог видеть высокий лоб, задумчивые глаза, крепкое тело под плотными, ворсистыми складками платья. Он заметил простодушно:
— Это может создать затруднения, если ты выберешь французского мужа.
Ее тонкое, мальчишеское запястье лежало на коленях; вторую руку она подложила под голову. О'Лайам-Роу внезапно увидел, как резко обозначились сухожилия, и не удивился, когда она сказала:
— У меня было много собак. — И, помолчав немного, добавила, по-прежнему возвращаясь к их прошлой беседе: — Я подумала и пришла к странному выводу. Бывают вещи и похуже, чем сидеть в глинобитной хижине, провонявшей селедкой, и держать на коленях миску с капустным супом.
О'Лайам-Роу невольно весь сжался. И сказал только одно:
— Я всегда придерживался такого мнения. Все зависит только от того, с кем ты сидишь в хижине.
Уна не отводила взгляда. Мало того: она повернулась и оперлась о валун локтем; другая ее рука свободно раскинулась на траве. Сухие листья впечатались в меховую накидку, как в рыбачью сеть обломки затонувшего корабля. Не веря себе, он прочел в ее глазах неистовую, непритворную нежность.
— Ты мне нравишься, Филим О'Лайам-Роу. Ради собственного моего блага я должна была бы полюбить тебя. — Уна всмотрелась в его лицо. В нем появилось нечто непривычное: напряжение, тревога, потребность в защите. И она добавила с яростью, совершенно неожиданной: — Ты ведь такой независимый, а? Неужели ты, такой мудрый, такой свободный, не можешь сделать так, чтобы я тебя полюбила?
Наступило мучительное, раздирающее душу молчание. Затем О'Лайам-Роу опустился на одно колено, сминая платье Уны, взял ее свободную руку и положил к себе на плечо. Проворно, легко она поднялась и подставила губы для поцелуя.
Странный это был поцелуй. Женщина явно обладала большим опытом и не пыталась этого скрыть. О'Лайам-Роу же пришло на выручку его собственное простодушие. В этот решающий момент он не ощутил никакой неловкости и не старался выказать изощренность, для него недоступную. Наоборот: все, что составляло сущность его природы — склонность к умозрению, безрассудная смелость, абсолютная порядочность, — слилось в этом поцелуе, сделав его чем-то в своем роде совершенным, а для Уны О'Дуайер — довольно неожиданным и новым.
От этой новизны и неожиданности она на какое-то мгновение смешалась. О'Лайам-Роу ощутил возникшую неловкость и отстранился; на лице его застыло непривычное, доселе не виданное выражение, — и тут почувствовал, как крепко, как волнующе впилась ему в спину ее рука. Уна подняла другую руку, так, что скользнул вниз тяжелый рукав, и притянула его голову к себе. Этим поцелуем она без слов дала О'Лайам-Роу понять, что все его желания будут исполнены.
Скромность ли, проницательность или неуверенность в себе, но что-то пришло на выручку — сначала он догадался, а потом ощутил всем своим существом: ослабил объятие, повернул голову, открыл глаза. Уна не поняла. Гибкая, податливая, она скользнула в траву и сказала мягко:
— Ты боишься провала? Я не прошу невозможного, дорогой. Поезжай в Ирландию со Стюартом и жди меня там. Это — начало, а не конец.
Он уселся на корточки. Черты его, в обрамлении мягких, шелковистых волос, все еще казались странно искаженными, будто весь склад его лица нарушился, столкнувшись с несокрушимой преградой, и теперь восстанавливался в трудах и в муках.
— Ты очень добра ко мне, — сказал он, и невозможно было решить, прозвучала ли в этих словах нотка сарказма. — Но не может быть ни начала, ни конца у того, что не состоялось.
Он сел так, чтобы Уна не могла видеть его, — чтобы было легче ей или ему самому, девушка не знала. Лежа неподвижно и пристально глядя в небо, она спросила:
— Что с тобой? Лучше скажи сразу.
— Ничего, — ответил он.