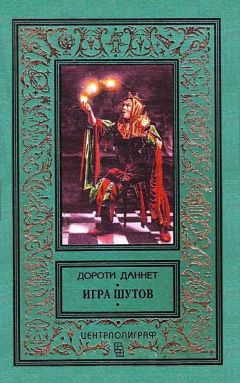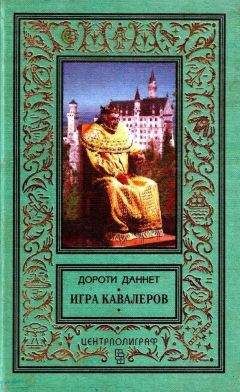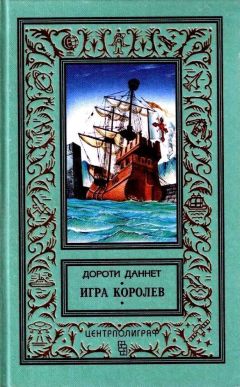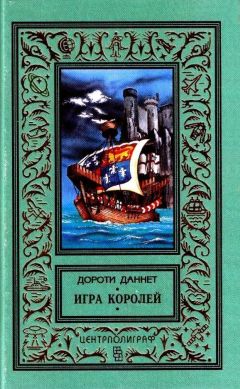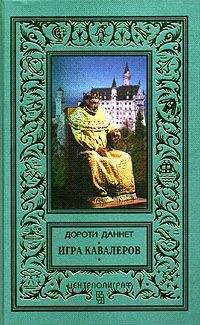И они тоже оказались приятными. В самом деле: ничто не предвещало изменений в тоне вечера, пока очередь не дошла до танца дикарей, пленных бразильцев, которых доставили с последней экспедицией и препоручили заботам главного смотрителя королевских зверинцев. Абернаси в золотом тюрбане суетился среди них, наблюдая, как его люди заталкивают в залу растерянных пленников. В развлечениях вечера, до сих пор утонченных, вдруг появилась прихотливая, причудливая нотка — не потому ли напряглось лицо вдовствующей королевы Шотландии, а Екатерина заерзала на стуле, словно предчувствуя неминуемую скуку? Придворные кавалеры, напротив, ожили. Король, слегка отстранившись от ученых, окруживших его, поймал взгляд Сент-Андре, и оба многозначительно улыбнулись. О'Лайам-Роу насчитал шестерых мужчин и одну даму, которые явно выпили слишком много. Остальные скорее всего выпили не меньше, но пока не подавали виду. Это удивило ирландца, ибо он считал, что этикет при дворе должен быть строгим чуть не до абсурда.
Для принца Барроу энергия и красота танца своеобразно дополняли прелесть окружающей обстановки, не в меньшей степени, чем до этого музыка. Танцевали только мужчины, черноволосые и нагие. Босые ноги шлепали по гладким изразцам, меднокожие тела кружились в неистовой пляске, длинные, иссиня-черные пряди касались воздетых рук, округлых и мускулистых. Пот, отливающий золотом в свете факелов, скользил по гладким ложбинкам ключицы, вдоль хребта, по выпуклым, бронзовым мышцам груди и вокруг тугой подковы ребер. Глаза, круглые и маленькие над высокими скулами, горели бессмысленным блеском.
Сначала О'Лайам-Роу и все, кто сидел вокруг, слышали только музыку, доносившуюся из амбразуры, где гремели маленькие барабаны и свистели флейты. Потом до них донесся смех, восклицания, чей-то знакомый голое — и вот среди безмолвно мечущихся, подскакивающих фигур О'Лайам-Роу различил три, как раз напротив короля, в черной бороде которого сверкнула белозубая улыбка. Между изогнутых в танце ступней и напрягшихся лодыжек маленькое облачко перьев вспорхнуло, сверкнуло на свету и поплыло в сторону, как на мелководье — стая мальков.
Среди зрителей, привольно развалившихся на подушках, прошелестел смешок. Ряды танцоров внезапно расступились, и перед всеми взорами предстал Тади Бой Баллах, с пылкой энергией подражающий бешеным ритмам Нового Света; слева от него плясал голый бразилец, а справа — какой-то лучник в одних чулках, весь багровый от стыда, но полный решимости во что бы то ни стало выиграть пари, без сомнения, только что заключенное.
Бразилец, который наверняка рассчитывал по крайней мере досыта поесть, старался изо всех сил и во всяком случае не мог понять, почему лучники, стоящие вдоль стены, ржут, как кони. Но Тади Бой почти сравнялся с туземцем. С остекленелыми глазами, легкий, словно паутинка, оллав прыгал и размахивал руками, как горничная девка с метлой, и с каждым притопом целые тучи перьев вырывались из его сапог — когда-то, сегодня, вчера или позавчера Тади насовал их туда в связи с холодной погодой и позабыл вытряхнуть.
О'Лайам-Роу глядел на него во все глаза. Этого Силена 59) с опухшим лицом и невидящими глазами, это беззаконное неистовство он наблюдал иногда, урывками, в своей комнате, но никогда, в самых страшных снах, не ожидал увидеть здесь. Он ощутил, как волосы зашевелились у него на затылке, а к горлу подкатил комок. И тут до него дошло, что король смеется.
Три фигуры плясали уже совсем близко. Остальные танцоры, захваченные врасплох, смешались и отступили. Вел Тади Бой: в вихре исступленных импровизаций он то вырывал у музыканта скрипку и пиликал на ней простенькую мелодию, то, схватив со стола кувшин, поливал вином вспотевшего лучника, то пародировал разные танцы, что вызывало узнавание и смех. Вот он завертелся с лучником в бурной вольте. Затем, схватив за руки обоих своих партнеров, Тади Бой стал кружить их, все быстрее и быстрее, и наконец бросил друг на друга со всего размаху. Потеряв равновесие, индеец и шотландец с громким треском стукнулись лбами и, оглушенные, скатились на пол. Тади Бой сел, вытянув ноги, поднял к потолку синие, затуманенные, косящие глаза; потом закрыл рот, забрался в собачью корзину и тут же крепко заснул.
Он полагал, что представление можно считать законченным, однако придворные думали иначе. Утратив дар речи, О'Лайам-Роу наблюдал, как Сент-Андре и кто-то еще подтащили корзину к двери и принялись трясти оллава: черноволосая голова его моталась из стороны в сторону. Тади Бой внезапно всхрапнул и ожил и тут же разразился песней:
Вредна мне сытная еда,
Желудок воспален:
Но выпить я готов всегда
С тем, на ком капюшон…
Его милость лорд д'Обиньи, сидевший неподалеку от О'Лайам-Роу, откровенно забавлялся и отпускал бесчисленные замечания, исполненные терпимости, высокой культуры и светской премудрости. Казалось, все, что происходит перед их глазами, ничуть не смущало благородного лорда; напротив, можно было поклясться, что в глубине души он наслаждается ситуацией, подлинный смысл которой известен лишь ему одному. О'Лайам-Роу, уже готовый взорваться, находил это нестерпимым. Значит, они полагают, что Баллах так и должен себя вести? Или думают, что иначе он не умеет? Потом начался следующий после танцоров номер программы, и принц Барроу увидел, что Тади Боя пригласили в круг, собравшийся около короля.
О'Лайам-Роу мог слышать все, что там говорилось. Первая половина вечера запомнилась ирландцу еще и потому, что он мог созерцать лица знаменитостей, сидящих во главе стола: Тюрнеба и Мюре из Бордо и Парижа, де Баифа, законника Паске и философа Бодена. В разгар их беседы, в которой принц Барроу не мог принимать участия, поскольку помещался чуть поодаль, он восхищался пробуждением мысли, водоворотом идей — речь заходила об условиях человеческого общежития, о свободе воли, о смысле законов; а потом разговор углубился в дебри практических наук: астрономии, медицины, естественной истории. Они говорили по-латыни, чтобы всем было понятно, однако цитаты, которыми ученые потчевали друг друга, были и на греческом, и на еврейском, и на турецком, и на персидском языках. Имя Бюде упоминалось с великим почтением.
Но пока Тади Бой играл, они не произнесли ни слова, а когда оллав присоединился к ним, проявили искренний интерес, который выразился в целом потоке сухих, любезных, интеллектуальных вопросов по поводу его искусства. Выбрав самого старого и самого упорного из вопрошавших, Тади сладеньким голоском ввернул в его адрес площадную фразу.
Растерявшись, профессор оглядел своих коллег и все же попробовал снова. Ответ Тади Боя на этот раз прозвучал и вовсе непристойно, однако был остроумен. Даже король невольно улыбнулся, а сам Тади Бой просто раскис от смеха. Было ясно, что никто не находит нужным вступиться за ученых. Вине, обращаясь к Сент-Андре, сидевшему рядом, сказал сухо: