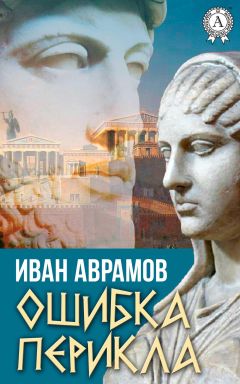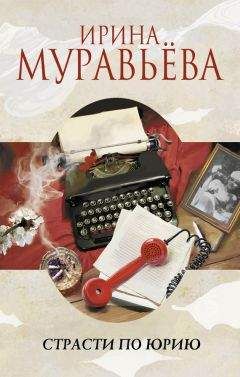Перикл по натуре своей не был злопамятным человеком. Там, где это возможно, он старался быть выше причиняемых ему обид. Когда-то давно один афинянин, имя которого уже стерлось в памяти, целый день донимал Перикла, обвиняя его во всех смертных грехах. Кажется, вся агора с ее брадобреями, башмачниками, колбасниками, пирожниками, горшечниками, моряками и приехавшими на торг земледельцами поняла, каким неиссякаемым может быть запас бранных слов. Даже когда Перикл направился домой, ненавистник не отстал, а увязался за ним, не переставая сыпать громкими оскорблениями. Наверное, этого озлобленного человека уязвляло то, что Перикл никак не реагировал на его проклятия — ни словом, ни жестом, ни взглядом. А то, как поступил затем Ксантиппов сын, привело афинян в восхищение. Поскольку на город уже пала ночь, он велел рабу: «Возьми факел и проводи этого человека до самого его дома, чтобы он в темноте не споткнулся и не расшибся». Вот и теперь, когда Сократ столь явно усомнился в «золотом веке Перикла», не прояснив, однако, что именно ему не нравится в афинской демократии, он сумел задавить в себе возникшую было досаду — ведь намного острее воспринимается хула из уст не врага, а друга. При очередной встрече с философом, подумал Перикл, он обязательно постарается выяснить, что у того на уме. Нет, этот день все-таки выдался удачным — от Фидия удалось отвести очередное обвинение. Но надолго ли?
Аспасия принимала гостей. Но, узнав о приходе мужа, тотчас вышла ему навстречу.
— Ты выиграл? — в голосе не вопрос, а, скорее, утверждение.
— Да, дорогая. — Он погладил ее волнистые волосы — блестящие, густые, задержал ладонь на тонкой, как у девушки, шее. — Надеюсь, Евангел все приготовил для жертвоприношения? Я велел ему купить молодого барашка. Хорошо, возвращайся к гостям. Интересный симпозий[32]не любит, когда его надолго прерывают.
Белый мраморный, отделанный богатыми рельефами и орнаментом жертвенник был свидетелем многих потаенных дум и желаний первого стратега Афин, который любил древний обряд умилостивления богов — в такие мгновения человек остается наедине с ними, предельно ясно осознавая свою ничтожность и полнейшую зависимость от тех, кто на небе. Барашек, украшенный венком из бледно-розовых алтей, синих анемонов и темно-зеленой хвои пиний, был совсем юн — в тех местах, где вот-вот выткнутся рожки, пока что выступают твердые бугорки, желтая, в завитках, шерсть отливает золотом. Агнец доверчиво потерся холодным носом о большую ладонь Перикла, точно прося его о защите.
Сильный порыв эвра[33]раздул пламя в ненасытном чреве жертвенника — дубовые и шелковичные поленья заполыхали с удвоенной силой. В воздухе запахло паленой шерстью — то Перикл предал огню несколько собственноручно срезанных золоторунных колец. Евангел подал хозяину длинный острый нож:
— Ты сам это сделаешь, господин?
Перикл кивнул. Двое рабов поднесли к губам авлосы.[34]Полилась тихая музыка. Печальные глаза ягненка увлажнились, наполняясь слезами. Короткий удар был точен — в самое сердце. Несколько капель крови брызнули на дорогие сандалии Перикла — он аккуратно вытер их травяным пуком. Потом отсек у бездыханного агнца нижние конечности и бросил их в пылающий зев алтаря. Повернулся к Евангелу, и тот передал ему расписанный старыми мастерами фиал, до краев наполненный дорогим неразбавленным вином. Совершая возлияние, Перикл, как и было им обещано на рассвете, воздавал хвалу Пеннорожденной Афродите, которая вот уже много лет покровительствует их с Аспасией любви; а еще, весь под впечатлением этого дня, он мысленно обращался к Деве Афине, второй дочери могущественного Зевса, прося у нее мира, покоя и благоденствия для всей Аттики, а также…ее первенствования во всей Элладе.
Косой луч солнца, тонким сверлом продырявив слюдяное оконце, заставил спящего прикрыть глаза ладонью и внес поправку в сновидение — агора, где разъяренный колбасник хотел побить Сострата за то, что тот в мгновение ока съел кусок ароматного копченого мяса, не заплатив за него, внезапно, будто ее и не было вовсе, будто Сострат и не пытался защититься от здоровенного наседающего торговца ватными немощными руками, куда-то отступила, исчезла, и теперь, всецело отдаваясь блаженству, он уже лежал на усеянном каменной крошкой берегу Алфея, с наслаждением чувствуя, как солнце нагревает закрытые веки, на которые извне наплывает теплое алое золото. И так хорошо было безмятежному Сострату, что век бы не открывал глаз, а нежился подле реки своего детства. Но утро разгоралось все сильнее, и совсем скоро в убогой комнате не осталось такого местечка, куда бы не проник солнечный свет — человек на деревянном топчане, покрытом тощей циновкой, заворочался, протяжно зевнул и проснулся. Он, кажется, полежал бы еще, но входная дверь громко хлопнула и настоянную с ночи тишину неприятно резанул голос Клитагоры:
— Эй, лежебока, ты еще в постели? Весь город давно уже на ногах.
— Уймись, женщина, — нехотя откликнулся Сострат. — Если то, на чем я лежу, ты называешь постелью, значит, с твоими глазами что-то случилось.
— Ты прав, — Клитагора остановилась у порога, не изъявляя никакого желания подойти поближе. У нее были темные глаза, роскошные густые волосы, полные красные губы и, если бы не большой крючковатый нос, вполне сошла бы за красавицу. Впрочем, когда-то она понравилась Сострату больше не лицом, а статью. Здесь уж есть на что посмотреть, не зря любвеобильные афиняне часто оборачиваются ей вслед.
— Ты, муженек, прав, — повторила Клитагора, поджимая сочные свои губы. — В первый раз глаза подвели меня, когда я увидела тебя и подумала, что буду за тобой, как за «Длинными стенами». О, всемогущие боги, вы свидетели, как я глубоко ошиблась. Но глаза — это еще полбеды. Зачем я, глупая, поверила тебе, когда бросила родное подворье в селе, где, на худой конец, у нас были бы и оливки, и виноград, и хлеб, и мед, и сыр…Зачем развесила уши, которые ты, никчемный, прожужжал сладкими посулами: «Откроем в городе мастерскую, обзаведемся рабами, заживем припеваючи. Из театра вылезать не будем!..».
— Но ведь ходим же, — вяло возразил Сострат.
— Благодаря Периклу, а не тебе. Если бы не теорикон,[35]что бы ты, интересно, запел? Да и какая, скажите на милость, радость от театра, если в животе спозаранку и до ночи урчит, будто там поселилась тысяча медведей?
— Замолчи, Клитагора! Мне уже кажется, что в нашем доме бьют в тимпан![36]
Под Состратом протяжно заскрипел топчан. Вытертая, залосненная, как долго послужившее седло, циновка чуть съехала набок. Он понуро вышел из дома, и Клитагора, вдруг почувствовав острую жалость к мужу, уже укоряла себя, что затеяла этот скандал. Конечно, ее Сострат никакой не лежебока, рвется изо всех жил, чтобы в доме было хоть какое-то подобие достатка, однако ничего не получается. И руки у него золотые, и воин он храбрый, а вот, поди ж ты, из нужды не выходит. Почему?