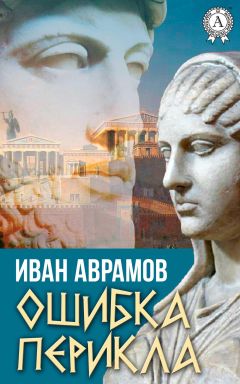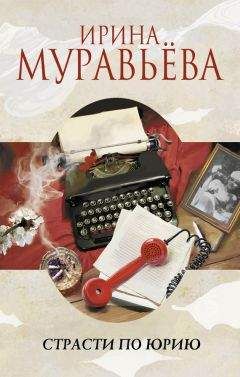— Неужели потратил все деньги? — ужаснулась Клитагора.
— Да нет, кое-что осталось. Представь, удача чихнула мне прямо в лицо. Я даже не успел утереться, как нашлось сразу несколько покупателей. Конечно, я отдал предпочтение тому, кто предложил больше денег.
— Ты хоть запомнил его имя?
— Да. Некто Фукидид[46], сын Олора. Он еще молод, но, сдается мне, когда-нибудь о нем заговорит вся Эллада.
— А почему ты так решил? — изумилась Клитагора.
— Сам не знаю. Глаза у него очень умные. Это, несомненно, благородный и решительный человек.
Этой ночью Клитагора, тронутая подарками и тем, что в доме появилось хоть некоторое подобие достатка, была очень ласкова к мужу. Она безоговорочно и в охотку выполняла все его любовные прихоти. Вдоволь испив нектара телесных утех, они наконец-то угомонились. Уже смыкая вежды, Сострат услышал, как из уст жены страстно, с мольбой излетело:
— Ах, как бы нам выбраться из этой обрыдшей нужды! Тогда я, наверное, стала бы самой счастливой женщиной в Аттике.
Что ей ответить, Сострат решительно не знал, да к тому же сладкий сон уже почти разморил его. Однако спустя мгновение он так взвился, что их дышащее на ладан ложе взвизгнуло, как раненый вепрь — до того потрясли, изумили, испугали его слова супруги. А сказала она вот что:
— Состратушка, я сегодня думала-думала, как нам быть дальше, и в голову мне пришла совсем неожиданная, но дельная мысль: а что, если тебе записаться в сикофанты?
— Ты совсем рехнулась, глупая женщина, — вскричал Сострат, словно начисто позабыв, как еще совсем недавно шептал ей на ушко разные ласковые и нежные слова. — Ты хоть понимаешь, что говоришь? Хочешь, чтобы я, честный воин, порядочный демиург,[47]стал жалким, вызывающим всеобщее презрение доносчиком?
— Таких доносчиков, и ты знаешь это не хуже меня — полгорода. Одна половина рыщет и вынюхивает, другая отбивается или откупается. По крайней мере, Сострат, участвуя в судах, ты сможешь получать хотя бы несколько оболов в день. Я собственными ушами слышала, как Перикл, выступая в народном собрании, чуть ли не похвастался, что сейчас в Афинах шесть тысяч гелиастов-судей. Почти треть свободных граждан занимается тяжбами и разбирательствами. Разве им не нужны помощники? И разве трудно подсчитать, сколько этих помощников требуется? Открой глаза, Сострат. И ты увидишь, что Клеанф, горшечник с нашей улицы, дети которого еще год назад саранчой налетали на соседские огороды, потому что животы подводило от голода, теперь уже купил дом в Керамике,[48]а его жена наряжена не хуже, чем Аспасия. Откуда взялись денежки? Наверняка, согласись, Клеанф прижал к стенке владельца медного рудника Близона. Назвать еще кого-нибудь из этих самых сикофантов?
— Закрой рот, Клитагора, — глухо сказал Сострат. Он отвернулся от нее, подумав, что их медовой ночи сегодня будто бы и не было вовсе. Ничего больше Клитагора от него не услышала, но ничего больше не сказала ему и она, решив, что муж уже спит. Селена[49]щедро залила их убогую опочивальню своим тусклым небесным молоком. Но не от ее призрачного света не мог заснуть Сострат. Первое, что пришло в голову, когда он немножко успокоился, — его Клитагора, несомненно, умная женщина, как не говори, а выросла в семье сельского писца, любившего пофилософствовать. А второе… Вот над этим вторым и размышлял сейчас Сострат, натянув почти по брови старую изодранную хлену…
Пройти мимо и не обратить внимания на вывеску было просто невозможно — в центре желтого прямоугольника намалеван багровый вздыбленный, готовый, кажется, вот-вот лопнуть от напряжения фаллос. Это означало, что в просторном доме, окна которого забраны тяжелыми непроницаемыми занавесями ярких, даже кричащих тонов, находится порнейон.[50]Причем один из самых дорогих в Афинах. Высокий каменный забор надежно ограждал внутренний двор от посторонних взглядов. Оттуда доносилась тихая музыка, извлекаемая из авлосов. Потом подала голос и кифара — кто-то невидимый нежно пощипывал ее струны.
Ксантипп, старший сын Перикла, названный так в честь деда и удивительно на него похожий — тот же широкий лоб, длинные брови, полные чувственные губы, уставился на вывеску так, будто увидел ее впервые, будто и не захаживал сюда частенько. Стояло погожее позднее утро, и молодой человек, всю ночь проведший за пирушкой с друзьями, теперь, слегка кривясь от ломоты в голове, раздумывал, зайти в порнейон или не зайти. «А почему бы и нет? — внезапно удивился он самому себе. — Если желание появляется, его надо удовлетворить. Никакой, даже самый прожженный, софист[51]не сумеет убедить меня в обратном. В конце концов, я должен хоть ненадолго отвлечься от неприятных мыслей».
Последний довод оказался, пожалуй, сильнее предыдущего, и Ксантипп даже повеселел. Он постучал в красную железную калитку, которая тотчас отворилась — чернокожий раб-ливиец почтительно отступил в сторону, пропуская гостя. На зеленой лужайке в непринужденных позах отдыхали несколько девушек, чьи соблазнительные тела скрывала до того прозрачная ткань, что казалось — это вовсе не одеяние, а нечто эфемерное, совершенно бессмысленное и ненужное. Волосы у жриц любви, как и предписывалось строгими афинскими законами, были выкрашены шафраном и полыхали рыжим огнем; почти всех молодой эвпатрид[52]знал, поскольку неоднократно пользовался их услугами, воздавая тем самым хвалу Афродите Пандемос.[53]
Ксантипп не торопился. Он поочередно остановил свой взгляд на каждой из диктериад.[54]«Ушко иглы», чья насмешливая кличка, приклеенная ей многочисленными клиентами, говорила уже сама за себя, слегка встрепенулась, не питая, впрочем, ни малейшей надежды, что выберут именно ее. Тем не менее она заученно, скорее даже, машинально соединила большой палец с безымянным, но зазывное «кольцо» не произвело на посетителя ни малейшего впечатления. Ему ли, завсегдатаю злачных мест, не знать шутки, передаваемой из уст в уста афинскими острословами: «Ушко», да больно «тесное», в которое проденешь не только нитку, а целый корабельный канат». И то — до Афин эта приближающаяся годам к двадцати пяти «ягодка» успела обслужить Милет, Аргос, весь остров Хиос и, наконец, Пирей с его грубыми матросскими нравами.
Открыто, на миг оторвав авлос от чувственных, красных, как черешня, губ скрестила свои глаза с глазами Ксантиппа «Необъезженная кобылка», получившая эту кличку потому, что любила делать в постели не то, что предпочел бы клиент, а что нравилось ей самой. В принципе, Ксантипп, учитывая нынешнее свое состояние, уже хотел было дать ей знак, что согласен, но белила и румяна, на которые «Необъезженная кобылка» не поскупилась с самого утра, хотя личиком была и так хороша, вдруг вызвали у него раздражение: да на кой она ему? Хотелось чего-то нового, острого, неизведанного, а «кобылку» он знал как пять своих пальцев. «Аистиха», прозванная так за стройные, но чересчур худые и длинные ноги, «Флейтистка», привыкшая работать исключительно ртом, «Мамка-кормилица» с непомерно большими, как обкатанные морем валуны, грудями и «Беотийская девственница», чрезвычайно, несмотря на прекрасную выучку, застенчивая, словно ублажала мужчину впервые, Ксантиппа не заинтересовали. Он подумал, а не уйти ли ему вообще, как вдруг увидел еще одну диктериаду, которая почему-то осталась немножко позади его самого. Он уставился на нее так, будто пред очи его предстала сама «Пеннорожденная». «Да вот она, та неизвестная красавица, которая мне и нужна», — подумал Ксантипп, глядя на нее, как охотник на лань.