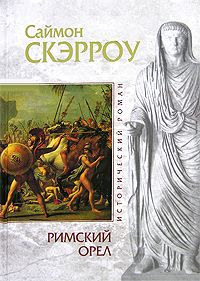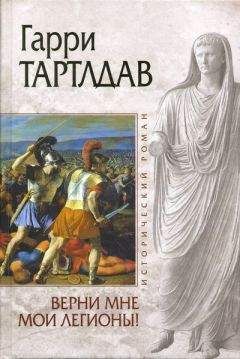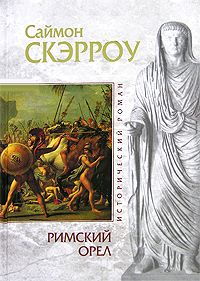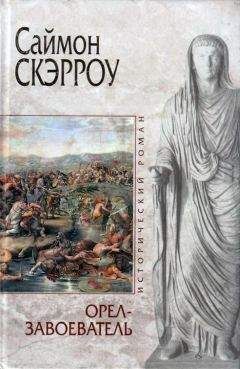— Да, — буркнул Катон, не желая вступать в разговоры.
— Дальше будет еще хуже.
— Да ну?
— Думаешь, справишься?
— Да! — решительно ответил Катон. — Справлюсь. Обязательно справлюсь.
— Сомневаюсь. — Пиракс покачал головой. — Ты слишком хилый. Я даю тебе месяц.
— Месяц? — сердито спросил Катон.
— Ага. Месяц, если ты не дурак. Если дурак, может выйти и больше.
— О чем вообще ты говоришь?
— Да о том, что в твоем присутствии здесь нет ни капли смысла. Не из того теста ты слеплен. Хилый слабак, вот ты кто. И тут ничего не изменишь.
— Мне скоро семнадцать.
— Это не в счет. Дело не в возрасте, а в крепости тела. Ахнуть не успеешь, как Бестия обломает тебя.
— Не обломает! Скорей я умру!
— Может, дойдет идо этого. — Пиракс пожал плечами. — Вряд ли ктонибудь опечалится.
— Что ты этим хочешь сказать?
— Да так, ничего. — Пиракс снова пожал плечами и вернулся к оставленному занятию, аккуратно — стежок за стежком — накладывая на разрыв ровный шов.
Катон, разалевшийся от волнения и стыда, невольно залюбовался сноровистыми движениями его рук. Конечно, некоторые рабы при дворце тоже в случае надобности занимались починкой одежды, но тем не менее штопка считалась преимущественно женской работой, и то, что мужчина умеет так ловко управляться с иголкой, казалось чемто весьма необычным, похожим на фокус.
А намек Пиракса был ему очень понятен. Заняв должность оптиона, он, Катон, волейневолей нажил себе кучу врагов. Да и центурион Бестия, похоже, его невзлюбил, и хуже того — даже коекто из новобранцев. В первую очередь это относилось к молодчикам из перуджийской тюрьмы, с ними Катон столкнулся еще в дороге. В их вожаки малопомалу выдвинулся приземистый, бочкоподобный детина, отличавшийся столь редкостным безобразием, что сотоварищи тут же дали ему прозвание Пульхр.[1] Урод только скалился, обнажая огромные зубы. На одном из переходов Катон оказался непосредственно позади этого малого, и тот на привале вдруг обернулся и потребовал передать ему фляжку. Вроде бы мелочь, но в тоне Пульхра звучала такая угроза, что фляжка словно сама собой выскользнула у Катона из рук. Пульхр, смачно чмокая, сделал несколько энергичных глотков, а потом стал угощать вином приятелей.
— Ты хочешь пить? — осклабился он. — Тогда забери у меня свою баклагу.
— Отдай мне ее.
— Возьми сам.
Вспомнив об этом, Катон снова вспыхнул, и его совесть вновь потребовала ответа, как в этом случае повел бы себя настоящий мужчина? Надо полагать, настоящий мужчина без промедления наградил бы обидчика тумаком. Правда, этот поступок шел бы вразрез со здравым смыслом, ведь осмелиться выступить против этой гориллы мог только тот, кто сложен по меньшей мере из кирпичей. К тому же громила вдруг резко подался вперед, и Катон инстинктивно отпрянул, отчего все вокруг рассмеялись, а проходящий мимо легионер, оценив ситуацию, молча забрал у Пульхра фляжку и для острастки ткнул смутьяна тупым концом копья. Пульхр плюнул в его сторону, а Катону, растерянно вертевшему в руках пустую посудину, мрачно пообещал:
— Поквитаемся в лагере, парень. — Он выразительно позвенел кандалами. — Как только их снимут с меня.
Но по прибытии в крепость всех новобранцев взяли в ежовые рукавицы, и Катон стал надеяться, что Пульхр забыл про него. Он, правда, старался держаться от перуджийцев подальше, отворачивал от них голову, прятал глаза, а когда дневная муштра закончилась, тут же покинул плац, отчаянно сожалея, что не сумел обзавестись по дороге друзьями. Другие рекруты быстро разбились на приятельские кружки, а он в это время перечитывал вирши Вергилия. И дочитался до того, что остался один.
Один. Без поддержки, без помощи. Катон отвернулся к стене. Глаза его вдруг предательски защипало, он уткнулся носом в грубую, набитую соломой подушку, содрогаясь от беззвучных рыданий и кляня всех своих самодовольных наставниковгреков со всей их дурацкой влюбленностью в пышные словеса. Зачем, скажите на милость, они столь рьяно ее ему прививали? Разве может поэзия защитить человека от всего этого скотства, от происков самодурствующего начальства и от кулаков наглого и безмозглого перуджийца? Нет, нет и нет.
Пиракс, склонив голову набок, прислушался, проворная игла в его руках застыла над швом. Он понял природу доносящихся сверху всхлипываний и сочувственно покачал головой. В армию, как правило, идут парни крепкие — уже закаленные, тертые, умеющие постоять за себя. Однако и им поначалу приходится нелегко, а что же взять с этого бедолаги? Совсем сопляк еще и вдобавок — неженка, куда ему до других? Правда, коекто всетаки полагает, что солдатчина может делать мужчин из маменькиных сынков, но чаще все оборачивается много хуже.
Паренек наверху всхлипнул снова.
— Эй! — хрипло окликнул Пиракс. — Что с тобой? Ты мне руку сбиваешь.
Катон пошевелился.
— Я чтото расчихался. Прости.
— Ага, — кивнул Пиракс. — Это бывает. Это немудрено в такую погоду.
Катон утер лицо уголком грубого солдатского одеяла, делая вид, что сморкается.
— Кажется, все.
— Стало малость полегче?
— Да, — отозвался Катон благодарно, потом спросил, чтобы поддержать разговор: — Где остальные?
— В столовой. Играют в кости. Я тоже пойду к ним, как только закончу с шитьем. Хочешь пойдем туда вместе? Посидим, поболтаем с парнями?
— Нет, спасибо. Мне нужно поспать.
— Дело твое.
— Скажика… — Катон неожиданно повернулся и свесил голову вниз. — Этот центурион… Бестия. Он и впрямь такой скот, каким кажется?
— А ты как думаешь? Бестия всегда бестия. Его за глаза у нас так и зовут. Но будь спокоен, ты у него не один. Он всех новичков гоняет до полусмерти.
— Всех? — с сомнением переспросил Катон. — Но мне почемуто перепадает гораздо больше, чем остальным.
— А ты чего хочешь? — буркнул Пиракс, затягивая концы узелка, чтобы тут же скусить их зубами. — Ты в лагере всего один день, а уже получил назначение, которого тут ждут годами.
Катон внимательно оглядел собеседника.
— Тебе это неприятно?
— Конечно. Ты ведь еще совсем сосунок.
Укол попал в цель, лицо юноши вспыхнуло, и он мысленно благословил царящий в помещении полумрак.
— Это решение легата. Я его ни о чем не просил.
— Просил не просил… все равно непорядок. Эта должность… она требует опыта, знаний, смекалки, а за что, объясни, ее дали тебе? Может быть, за прекрасные глазки?
Юноша вновь покраснел.
— Меня… поощрили. И вовсе не за прекрасные глазки, а за заслуги отца.
— Ха! Поощрили!