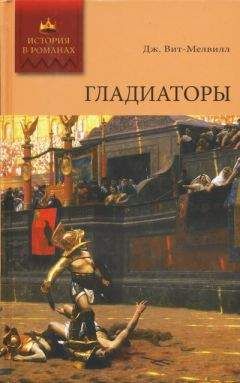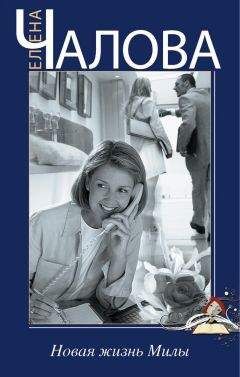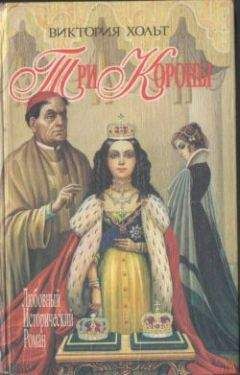— Я хотела сказать тебе, госпожа, о трибуне Юлии Плациде. Это он говорил о твоих волосах, что каждая прядь их для него драгоценнее мины золота. Ах, какой он изящный мужчина! Во всем Риме нет ни одного патриция, который бы сравнился с ним. О, если б ты видела его сегодня утром, как он в своем фиолетовом плаще, с блестящими на солнце драгоценностями, сидел в роскошной повозке, запряженной в четверку лошадей самого белого цвета во всем городе. Ну, уж если б я была благородной женщиной, да если б за мной ухаживал такой мужчина…
— Ты говоришь, мужчина? — прервала ее госпожа с презрительной усмешкой. — Право, если называть мужчинами этих завитых, надушенных и гладко выбритых людей, то нам, женщинам, надо бы возмутиться, если мы не хотим видеть, как гибнет отвага и сила в Риме! Как это ты, Миррина, знающая Лициния и Гиппия и еще вчера видевшая двести гладиаторов в цирке, не научилась быть лучшим судьей. Мужчина!.. Тогда ты назовешь этим именем и ту девчонку, которую зовут Парисом…
Госпожа и служанка обе расхохотались, так как при этом имени они вспомнили историю, льстившую самолюбию Валерии. Парис, молодой египтянин, очаровательной женственной наружности, недавно прибыл в Италию с целью фигурировать, и не безуспешно, на римской сцене. Его нежные черты, удивительная стройность и чисто женственная грация нанесли тяжкие раны сердцам римлянок, всегда очень чутким к прелестям актеров. Парис нимало не потерял в общественном расположении от того, что носил имя несчастного любимца Нерона, и с первых же шагов, без всяких колебаний вступил на тот же блестящий, хотя и опасный путь. Впрочем, несмотря на то, что считалось хорошим тоном быть влюбленной в Париса, Валерия одна только не следовала моде и относилась к нему с тем полнейшим безразличием, какое она чувствовала ко всем развлечениям, не доставлявшим ей удовольствия.
Задетый заживо этой холодностью, раздосадованный актер начал усиленно добиваться расположения пренебрегавшей им женщины, и после бесчисленных поражений ему удалось получить согласие на свидание в собственных чертогах Валерии. Он имел неосторожность заранее похвалиться этим результатом, и Миррина, ничего не упускавшая из виду, конечно, не замедлила предупредить свою госпожу о том, что ее снисходительность была столько же дурно истолкована, сколько и некстати оказана. Ввиду этого обе женщины составили свой план, и, когда роскошно разодетый Парис в сильном волнении пришел на обещанное свидание, его вдруг схватили шесть старых, отвратительных негритянок, осыпали ласками, раздели донага и обращались с ним так, как будто он был нежным младенцем, спокойно распоряжаясь им по своему произволу, которому он тщетно пытался противиться. Те же черные рабыни одели его в женскую одежду и, без сострадания к его усилиям, крикам и мольбам, посадили его на носилки Валерии и отнесли в них до самых его дверей.
Вспыльчивый ум актера дал этой метаморфозе самое неблагоприятное объяснение, какое только можно было придумать для той, кто был ее виновницей, и, вероятно, дал себе слово отомстить ей.
— Парис, без всякого сомнения, слишком хорошо знает, что ты о нем думаешь, — промолвила Миррина, — и пусть он красив лицом и прекрасно танцует, но уж понятно, Плацид красивее. Ах, госпожа, если бы ты видела его сегодняшним утром, как он грациозно возлежал в своей повозке да поддразнивал злосчастного подростка, ударившего своим хлыстом высокого раба, который, кстати сказать, исчез, как молния… Право, ты могла бы подумать, что в Риме нет других патрициев…
— Ну, будет толковать о Плациде, — нетерпеливо перебила госпожа, — это мне надоело. Но о каком же рабе ты говоришь, Миррина, и кто это такой привлек твое внимание? Что же, он из тех варваров, которыми так хвастает мой родственник Лициний? Как по-твоему, он достаточно красив, чтобы следовать за моими либурийцами, когда они несут мою лектику?
Глаза служанки заблестели при мысли о возможности видеть красавца-раба в одном доме с собой, и чувство смущения, испытываемое ею при изображении физических достоинств, пленивших ее воображение, рассеялось при этой увлекательной мысли.
— Красив ли он, госпожа? — воскликнула она, выронив гребень изо рта и распустив волосы госпожи. Затем, сжав обе руки, с чисто итальянской живостью и увлечением она продолжала: — Он настолько красив, что либурийцы в сравнении с ним все равно, что облезлые коршуны в сравнении с царственным орлом. Без сомнения, он варвар, кимвр, фрисландец или кто-нибудь в этом роде, так как я заметила чужестранный акцент в его речи, да притом в Риме немного людей такого высокого роста. Его шея совсем как мраморная башня, руки и плечи, словно у статуи Геркулеса, что в нашей колоннаде. Лицо у него вдвое прекраснее лица Перикла в твоем медальоне, и золотые волосы обрамляют лоб, белый как молоко. Глаза у него…
Миррина остановилась, может быть, подыскивая сравнение, может быть, переводя дух.
— Продолжай, — сказала Валерия, слушавшая ее в ленивой, но вместе с тем внимательной позе, с зажмуренными глазами, полуоткрытыми губами и загоревшимися щеками. — Говори же, Миррина, на что похожи его глаза?
— Они напомнили мне голубое небо Кампании в пору сбора винограда. У них такой же блеск, как у тех драгоценных камней, что украшают застежку твоего придворного платья. Они похожи на море, если смотреть на него в полдень с высоты стен Остии. И между тем они метали искры, когда уставились на беднягу Автомедона. Вот диковинка для меня, что этот подросток его не испугался! Я уверена, что он перепугался бы, если бы только что-либо могло устрашить этих бесстыжих кучеров.
— Так, по-твоему, Миррина, он из рабов моего родственника? Уверена ли ты в этом? — спросила госпожа с деланым равнодушием, по-прежнему оставаясь неподвижной в своей удобной позе.
— Я в этом уверена, — отвечала служанка.
Без сомнения, она продолжала бы разговор об этом интересном предмете, если б ее не прервал приход рабыни, сообщившей, что старый гладиатор Гиппий дожидается ответа, угодно ли Валерии взять обычный урок фехтования.
Но Валерия отослала его и осталась перед своим зеркалом, не желая расстаться с тем очаровательным образом, который отражался в нем. Бог знает, о чем она думала, но, должно быть, ее мысли были увлекательны до такой степени, что казалось, ей было страшно, как бы кто-нибудь ее не побеспокоил.
Между тем раб-бретонец, не подозревая, что он уже сделался предметом интереса Валерии и очарования Миррины, шел через переполненные народом улицы, находившиеся в соседстве с форумом. Он испытывал то чувство удовольствия, какое свойственно человеку, наблюдающему движение и суету, которые прямо его не касаются.