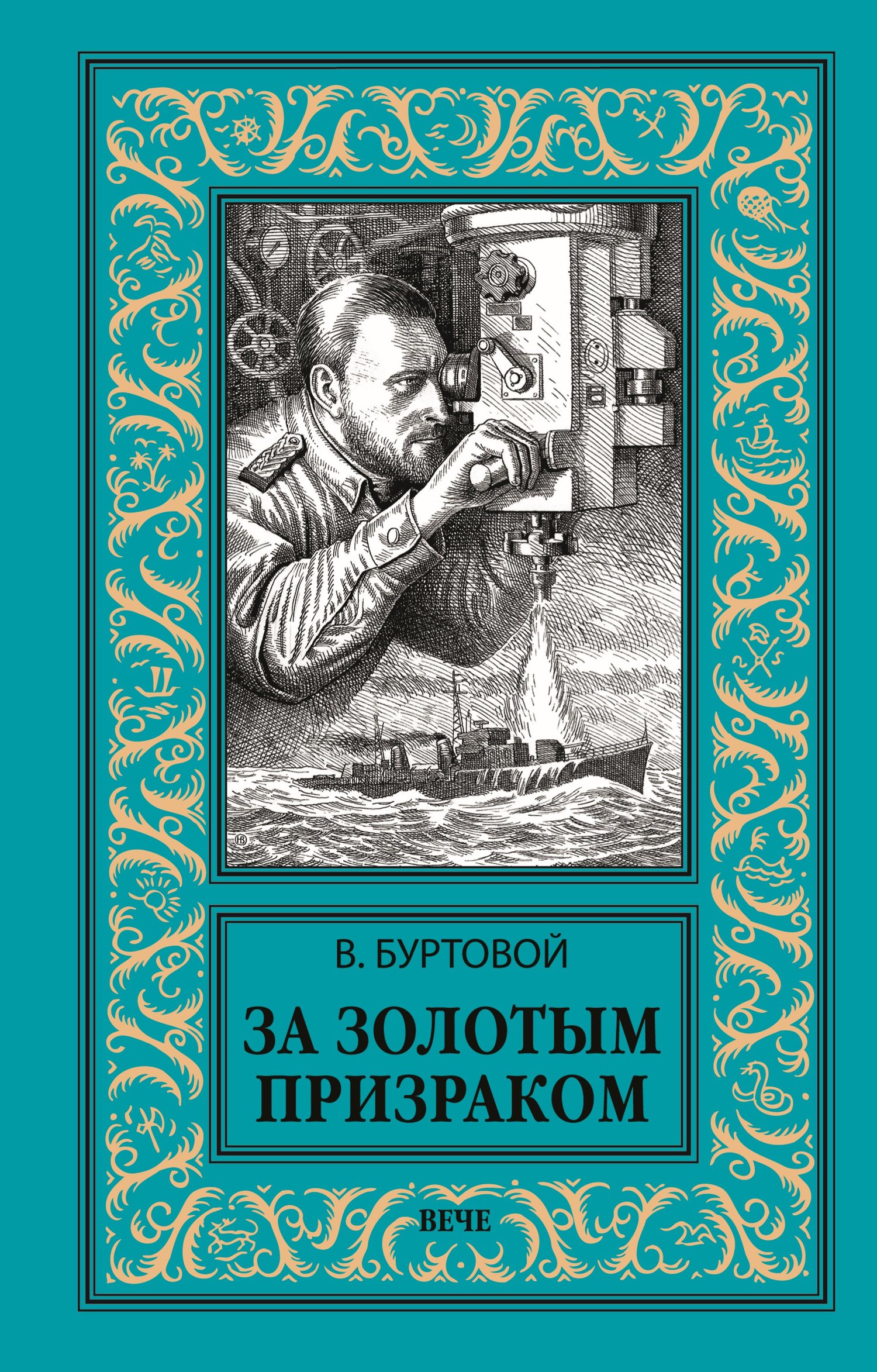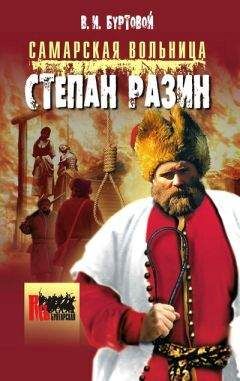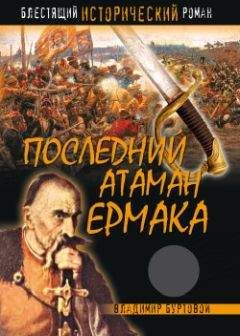первых дней осады, потому как наш стрелецкий полк вошел в литовскую столицу Вильно почти за неделю до прихода неприятеля к стенам города. Попервой на всякий приступ врагов мы тут же ответствовали крепким встречным ударом из крепости, поначалу пушечной, а потом и встречной атакой. Бились крепко, себя не жалеючи, потому как чаяли помощи от великого государя ну ежели не со дня на день, то хотя бы с недели на неделю…
Княжна Лукерья сидела, сцепив пальцы на белоснежной домотканой скатерти, смотрела в окно на мокрые кресты церкви и на бестолкового звонаря в черном длиннополом одеянии, пыталась в своем воображении «нарисовать» те картины баталий, которые происходили под стенами далекой отсюда Вильны, в пороховом дыму пушек различить родимого батюшку, бегающего от одной башни к другой, чтобы не упустить минуты и места решительного приступа неприятельской армии. Она видела перепуганных горожан, которые спасались от гаубичных бомб – они перелетали в город через стены крепости, видела пылающие в пожарищах дома и орущих от страха ребятишек.
– И вот, княжна, пришел тот страшный день, когда у пушек некому было стоять, а не то чтобы открыть ворота и выйти в поле для встречного сражения… Тогда и вызвал меня к себе князь Данила, исхудавший, пулей раненный в левое плечо, отчего был без кафтана, только в белой рубахе, сквозь которую видна была повязка с круглым пятном крови.
«Посылаю тебя, сотник Хомутов Семен, на верную гибель, потому как никому более не могу доверить этого героического дела. С часу на час король Ян-Казимир предпримет последний для нас штурм Вильны… У меня в строю менее ста стрельцов да рейтар, по найму служивших великому государю царю Алексею Михайловичу. Крепости нам не удержать, помощи от государя в близкие часы не вижу, а потому именем великого государя повелеваю тебе, сотник Хомутов, вот с этими ключами от порохового погреба сойти в подвал, сбить с одной бочки обруча и, как только от меня прибежит посыльный с известием, что литовцы ворвались в замок, взорвать таковой вместе с неприятелем…»
Старый сотник покашлял, огляделся, словно видел себя сызнова в темном подвале замка, одного, с десятком пороховых бочек, средняя из которых уже им вскрыта и смотрит на мир страшным темно-зернистым круглым оком – оком погибельного огненного смерча и разрушения.
– По гулу пушек я скоро догадался, что литовцы пошли на приступ крепости, однако пушки палили недолго, потому как неприятель ворвался в город большой изменой, зачинщиком среди которых был подьячий Сенька со товарищами Ивашкой Чешихой и Антошкой по прозвищу Повар, о которых я прознал гораздо позже. А тогда учуял, как кто-то бежит по каменным ступенькам в подвал. Решил – пришел роковой час мой, воеводы князя Данилы и врагов. Только было перекрестился, про себя молвил: «Во имя Господа, великого государя и отечества!» – как в подвал вбежал рейтарский офицер, увидел меня с факелом, который я снял уже со стены, вскинул пистоль и пальнул в меня. Мыслил, думаю, убить до смерти, но прострелил левую ногу. Я упал, рейтар загасил факел в ящике с песком, тут прибежали другие рейтары, лопочут не по-нашенски, меня выволокли во двор замка, а там, повязанный, в одной рубахе, без кафтана, стоял уже воевода и князь Данила. Кто-то из стрельцов перевязал мне ногу, а иначе я истек бы кровью, положили в телегу и отвезли в просторный дом, где таких же покалеченных в сражении лежало не менее полста человек. Лечили нас скверно, потому и хромота осталась пожизненно. Через месяц нас вывезли из Вильны, в сопровождении безоружных стрельцов отпустили в Россию. – Семен Хомутов погладил порченое колено, поморщился, глянул на притихшую княжну Лукерью, добавил неохотно: – Плели недруги на князя Данилу всякую нелепицу, будто он рубил людишек на куски и теми кусками стрелял из пушек, да будто беременных женок за ребра подвешивал и тако они будто бы рожали, да великий государь и царь Алексей Михайлович тем наговорам не дал никакой веры, потому как князь Данила даже головы не склонил в поклоне перед королем Яном-Казимиром и не захотел принять из рук врага никакой милости…
Княжна Лукерья горестно вздохнула, тихо сказала:
– Я знаю, что по просьбе моего батюшки его убил княжеский повар… Даже смерть князь Данила не захотел принимать от руки католика-врага… А меня, сироту, моя тетушка Просковья поторопилась пристроить в женский монастырь после скорой смерти и матушки Анны Кирилловны… Ну, да об этом вам мой супруг Михась, как я ласково зову его, порасскажет. И о себе, и обо мне, потому как наши судьбы-тропинки долго вились по земле поначалу каждая в особицу, хотя и близко друг от друга, а потом пошли след в след, – и с ласковой улыбкой обратилась к Семену Хомутову: – Можно, я сниму этот дорожный наряд и оденусь в платье – устала за дорогу.
Хозяин дома живо подхватился, прошел по горнице в соседнюю спальную комнату, пригласил княжну.
– Вот, дорогая княжна, занимай светелку. Здесь моя супруга жила, да уже минуло три года, как схоронил ее, голубушку, овдовел на старости лет…
– Что же случилось? – подивился Михаил. Не видя тетушки Феклы, он подумал, было, что она в дальнем отъезде, у родной сестры в Серпухове.
– На Масленицу застудилась, голубушка, да в месяц ее и не стало… Сыновья, сам знаешь, оба в стрельцах, где-то под Воронежем супротив донских казаков стоят, чтоб на Москву с южной окраины не двинулись. Вот мы с Авдотьей и кукуем вдвоем. Больше кукую я, говорливый, а она все молчком да молчком. Спрашиваю: «Чего ты все молчишь, Авдотья?» – А она мне в ответ: «Ежели и я затараторю – последний таракан с досады убежит из дома, не в силах терпеть неумолкаемых хозяев». – И засмеялся, добавив: – Вот так, ради сохранения тараканов и позволяю ей молчком по дому двигаться… Переодевайся, княжна Луша, скоро банька будет готова. Вы с Дуней мойтесь первыми, а потом и мы с Мишуткой попаримся.
– Там и поговорим о делах смутных без посторонних ушей, – и Михаил добавил шутливо: – Потому как в бане, кроме лягушек под полатями, никого нет!
– Да, ты прав, милый Михась, – отозвалась из-за полуоткрытой двери княжна Лукерья и выглянула к мужчинам, – потому как скрывать нам есть что, – и тихо добавила, глядя в глаза старому сотнику: – Даже молчунья Авдотья этого знать не должна. Ну как да проговорится где-нибудь ненароком? Слетит с языка коварное словцо? Вслед за неосторожным словом и наши головы полетят под стать грибу-дождевику под горочку!
Семен Хомутов с тревогой глянул на племянника, на княжну