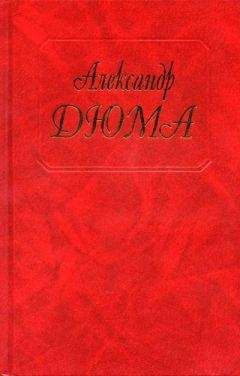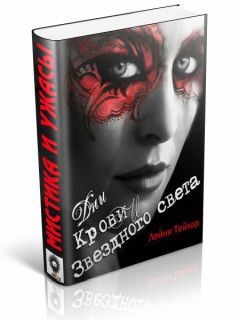Таким образом, барон уезжал до некоторой степени успокоенным. Христиана попросила его только об одном: прислать врача, который мог бы жить в замке постоянно. Барон был коротко знаком с одним старым доктором, известным как большой знаток детских недугов, и тот с радостью согласился поселиться в тихом, спокойном месте. В ожидании его прибытия Христиана, панически боясь повторения чего-либо похожего на недавнюю кошмарную ночь, убедила одного неккарштейнахского доктора задержаться в ее доме.
Короче, все устроилось, и барон вернулся к себе в Берлин, Христиане же осталось в удел лишь одно горькое утешение — возможность сгорать от стыда и плакать вдали от посторонних глаз. Первый месяц она провела между молельней и колыбелью Вильгельма.
Она не разговаривала ни с кем, кроме Гретхен, и обе находили своего рода мрачную отраду, делясь друг с другом своей скорбью и бесчестьем. Новые узы, отныне нерасторжимые, связали их навек. Верно сказала Гретхен: они стали сестрами.
Иногда Гретхен приходила в замок, чаще Христиана навещала хижину: здесь они были совсем одни и могли говорить куда свободнее.
— Что делать? — спрашивала Христиана. — Звать на помощь Юлиуса? Но письмо не сможет догнать его посреди моря. А когда он вернется, как быть? Рассказать ему все? Он захочет драться, и этот дьявол убьет его! Все скрыть? Ах, у меня же ни за что не хватит духу на подобное низкое притворство! С какими глазами я встречу его? Как смогу позволить ему прильнуть устами к этому оскверненному челу, где запечатлелось прикосновение чужих губ? Всего проще было бы умереть. Ах, если бы не Вильгельм! Какое несчастье для нас, женщин, что мы хотим иметь детей! Мой ребенок уже обрек меня на позор, а теперь он же приговаривает меня к жизни!
— Да, надо жить, — говорила Гретхен. — Умереть значило бы усомниться в Господнем правосудии. Верь, сестра, этот человек будет наказан. Будем терпеливы, дождемся, когда настанет час кары. Кто знает, может статься, нам суждено способствовать этому? Мы нужны здесь, нет у нас права бежать от воли Провидения.
Суеверные наваждения пастушки стали передаваться надломленной отчаянием Христиане. Ведь безумие заразительно. Гретхен, все больше терявшая связь с миром реальным, увлекала Христиану за собой в царство призраков и химер. Бедной, нежной душе Христианы жизнь и будущее уже представлялись не иначе как окутанными бредовым лихорадочным туманом, который все сгущался. Ее сознание трепетало и колебалось, словно пламя на сильном ветру, любой пустяк приобретал в ее глазах какие-то преувеличенные, пугающие размеры, расплываясь и меняя очертания, как бывает со всеми предметами при наступлении сумерек.
В продолжение месяца Христиана каждый день подобным образом виделась с Гретхен. Потом вдруг перестала появляться у нее, будто оставила ее тоже. Она больше не приходила в хижину. На третий день Гретхен сама явилась в замок, но Христиана не захотела принять ее. Она безвыходно заперлась у себя в комнате — не подходила даже к двери, не произносила ни единого слова, так что у Гретхен были причины заподозрить, не случилась ли какая-то новая беда, еще более увеличившая страшный позор Христианы и сделавшая тягостным даже присутствие ее сестры по несчастью.
Стало быть, как мы уже сказали, Гретхен не видела ее целых семь дней до того вечера, когда она вдруг неожиданно явилась со своей жуткой новостью.
Сраженная подобной бедой, Гретхен сначала не нашла ни единого слова в ответ — ничего, кроме крика ужаса.
А Христиана продолжала, до боли вцепившись обеими руками себе в волосы:
— Вот такое положение. Что, по-твоему, мне делать теперь? Не слишком ли это для бедной женщины, которой нет еще и семнадцати? А ты тут толкуешь о Господнем правосудии!
Тогда Гретхен выпрямилась, вся словно во власти какого-то дикого воодушевления.
— Да, — сказала она, — я говорила о Господнем правосудии, говорила и говорить буду! Во всем этом есть промысел Божий. Отец Небесный не мог обречь вас на эту новую муку лишь ради удовольствия сокрушить еще одним ударом свое бедное хрупкое создание, такое еще юное. Слушайте, тут вот в чем дело: он посылает нам мстителя. Да, я предсказываю вам, что это дитя отомстит за нас. Оно покарает презренного, погубившего нас обеих. A-а! Грех породил возмездие! На колени, сестра, и возблагодарим Всевышнего! Мерзавец будет наказан.
И Гретхен бросилась на колени, в порыве неистового торжества бормоча благодарственную молитву.
Вопреки своим опасениям Христиана еще сомневалась, вернее, у нее еще теплилась надежда. Может быть, она поспешила со своими жалобами, может, все это ошибка и ее страхи призрачны? Она решила ждать.
Но даже сама эта надежда не могла не стать для нее источником новых терзаний, ведь она превращала время в орудие медленной пытки: каждый день, каждый час ужасная уверенность, подобно острому кинжалу, все глубже вонзалась в ее сердце.
И вот настал момент, когда сомнениям пришел конец. Ужасающая истина предстала перед Христианой во всей своей неприглядности.
Как ей поступить с этим ребенком? Возвысить, растить под фамильным именем и на глазах мужа дитя, быть может порожденное другим? Или отвергнуть, отослать подальше, отдать Самуилу ребенка, в чьих жилах, возможно, течет кровь Юлиуса? Какая из этих двух крайностей самая жестокая, самая нестерпимая? Как она будет смотреть на это дитя — гордыми, восхищенными глазами счастливой супруги, жаждущей показать целому свету этот плод любви, или полным стыда и отвращения взглядом презренной изменницы, которая желала бы даже от Господа всевидящего скрыть плод своего преступления?
Ах! Никогда она не сможет жить бок о бок с живым свидетельством своего падения, с мрачной загадкой, с ужасным вопросом, навсегда поставленным перед ней неумолимой природой!
Здесь надо бы вспомнить о том, что Христиана была чиста помыслами и простодушна, совершенно неспособна заключить мирный союз со злом и спокойно спать, припрятав под подушкой память о совершенном грехе. Опозорив себя, пусть невольно, это бедное сердце, юное и благочестивое, терзалось не меньше, чем если бы ей действительно было в чем раскаиваться: грязь, запятнавшая доселе безупречную белизну ее совести, ужасала ее, и она оставалась безутешной.
Рассказать обо всем Юлиусу? Ах, нет! Она умрет прежде чем сумеет произнести хотя бы только первое слово подобного признания. И потом, хватит того, что она приняла на свои плечи все это горе и позор, зачем еще заставлять мужа делить с ней такую ношу? Да и в конце концов для того ли она такой ценой спасла Вильгельма, чтобы теперь толкнуть Юлиуса на верную гибель?