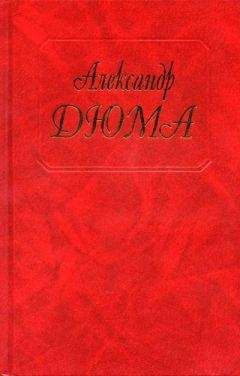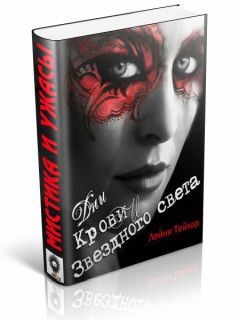Зачем она не убила себя сразу? Барон позаботился бы о Вильгельме до возвращения Юлиуса. Муж, погоревав какое-то время, женился бы снова — на женщине, достойной его. А теперь она уже не сможет покончить с собой, ведь она в этом случае умерла бы не одна. Самоубийство стало бы еще и убийством.
Все время, во сне и наяву, ее преследовал один чудовищный вопрос: чей это ребенок?
Бывали дни, когда она любила еще не рожденного младенца. Что бы там ни было, кем бы ни являлся его отец, она так или иначе приходилась ему матерью. Она смягчалась, думая о судьбе этого бедного существа, отверженного еще до своего рождения, и сердилась на себя за то, что в иные минуты она подумывала отдать его Самуилу, изгнать из замка, отлучить от материнских объятий. В эти дни ей без труда удавалось убедить себя, что ребенок от Юлиуса.
Но были и другие дни, притом чаще, когда она не сомневалась, что зачала от Самуила. Тогда она думала об этом ребенке с омерзением, словно он был вором, вздумавшим украсть у ее крошки Вильгельма половину его законного достояния. А по ночам, мучась бессонницей, томившей ее мозг кошмарными сумеречными наваждениями, она еще больше проклинала его, желала ему никогда не появиться на свет, даже грозила, что задушит его. О, конечно, это был ребенок Самуила, ведь не мог же Господь допустить, чтобы она ненавидела дитя Юлиуса!
Христиана не ложилась больше в свою отныне оскверненную кровать. Но и перейти в спальню Юлиуса она тоже не пожелала, считая себя недостойной переступить ее порог. Теперь она засыпала, примостившись на диване в салоне-будуаре. Она только позаботилась, чтобы стенное панно, маскирующее ход, по которому являлся Самуил, заставили тяжелой мебелью. Впрочем, это была дань не столько предосторожности, сколько суеверию, ведь Самуил держал свое слово. К тому же в этом замке, им же построенном, он, очевидно, мог бы найти и другие ходы.
В эти ночи, такие бесконечно долгие для нее, лишь изредка смыкавшей глаза при бледном мерцании ночника, постоянно горевшего на тот случай, если Вильгельм почувствует себя дурно, и вечерами в унылом свете подступающих сумерек она порой устремляла свой повелительный магнетический взор на потолок в надежде, что тот сейчас рухнет ей на голову, сразу оборвав томительную агонию ее души.
Бывало и так, что она, снедаемая лихорадкой, принималась взывать к буре, чтобы та сокрушила корабль Юлиуса, утопила ее мужа или, по меньшей мере, выбросила его на необитаемый остров, откуда ему уже никогда не будет возврата.
— Пусть все провалится! — выкрикивала она. — Он захлебнется в море, я кану в ад, лишь бы все это наконец кончилось!
Потом она бросалась на колени перед распятием и молила Бога простить ее за такие ужасные мысли.
Страх перед возвращением Юлиуса был самым нестерпимым из всех ее наваждений. Три месяца прошло со дня его отъезда. Он мог появиться в любую минуту. Когда Христиана думала об этом, все ее тело покрывалось холодным потом, она падала на пол ничком и подолгу, иногда часами, лежала, распростершись без движения.
Однажды утром кормилица принесла ей письмо.
Христиана глянула на конверт и вскрикнула. Письмо было от Юлиуса.
Прошло два часа, прежде чем она решилась его распечатать. Но потом ее подбодрило то соображение, что письмо пришло из Нью-Йорка. Стало быть, Юлиус приедет еще не сейчас, ведь иначе ему и писать не стоило, поскольку он мог бы добраться домой раньше своего письма.
От сердца у нее немного отлегло.
Но и сама эта радость причинила ей новую боль.
«Значит, вот до чего я дошла! — подумалось ей. — Я довольна, что Юлиус не возвращается!»
Она распечатала послание.
Юлиус и в самом деле писал, что задержится в Нью-Йорке на несколько недель. Он прибыл туда в добром здравии. Восторг, который его приезд вызвал у дяди Фрица, весьма благотворно повлиял на состояние больного. Тем не менее, врачи не смеют надеяться на его выздоровление. Лишить дядюшку своего присутствия, отнять у больного эту наконец-то обретенную живую связь с родной страной и любимым семейством — значило бы просто-напросто убить его. Поэтому Юлиусу придется продлить их разлуку, какой бы мучительной для него она ни была.
Однако он останется там ровно настолько, чтобы исполнить долг человечности и признательности, и ни минуты больше. Его душа осталась в Ландеке, он умирает от тоски по Христиане и Вильгельму. Чувствовалось, что говоря об этом, он старается не давать воли своим чувствам, боясь, как бы его жалобы не опечалили Христиану. Но любовь и боль разлуки явно переполняли его сердце.
Немного ободренная вестью об этой отсрочке, Христиана почувствовала себя лучше и, не переставая терзаться, в какой-то мере все же обрела душевное равновесие.
Время не останавливает свой бег даже тогда, когда мы страдаем. Итак, недели шли за неделями.
В конце декабря барон приехал навестить свою сноху и попытался вытащить ее из ландекского уединения хотя бы на ближайшие три месяца, самые слякотные и снежные. Но, как и в первый раз, она отказалась наотрез.
Свою постоянную грусть она объяснила затянувшейся разлукой с Юлиусом.
Барон нашел, что она очень изменилась. Впрочем, Христиана и сама призналась, что тоскует и чувствует себя неважно.
— О, в самом деле? — многозначительно улыбнулся барон.
— Ах, нет, отец, вы ошибаетесь! — насилу смогла пролепетать она, бледнея и внутренне содрогаясь.
Она от всех таила свою беременность. Решила скрывать ее, пока возможно. Зачем? Она сама не могла бы этого объяснить и все же безотчетно жаждала выиграть время.
Лишь Гретхен знала все. Она стала ее наперсницей — опасной наперсницей, блуждающей в тумане своих лихорадочных грез и видений.
Барон возвратился в Берлин, и Христиана снова впала в оцепенение безнадежности. По временам она получала письма из Нью-Йорка: состояние дяди с его перемежающимися улучшениями и ухудшениями вынуждало Юлиуса от недели к неделе все откладывать свой отъезд. Ей приходилось делать над собой неимоверные усилия, чтобы написать ему в ответ несколько отрывистых печальных строк. О том, что она ждет ребенка, Христиана умалчивала, решившись положиться на Господа, предоставив ему так или иначе привести эту драму к развязке.
Так миновала зима.
В середине апреля произошло печальное событие, давшее тревогам Христианы новую пищу.
Вильгельм слег, опасно заболев.
Старый доктор из Берлина все еще находился в замке. Болезнь мальчика в первые две недели не внушала серьезных опасений.
Христиана не спала ночей, ухаживая за обожаемым малышом со всей любовью, жаром, страстной преданностью матери, уже пожертвовавшей ради своего ребенка тем, что было ей дороже жизни.