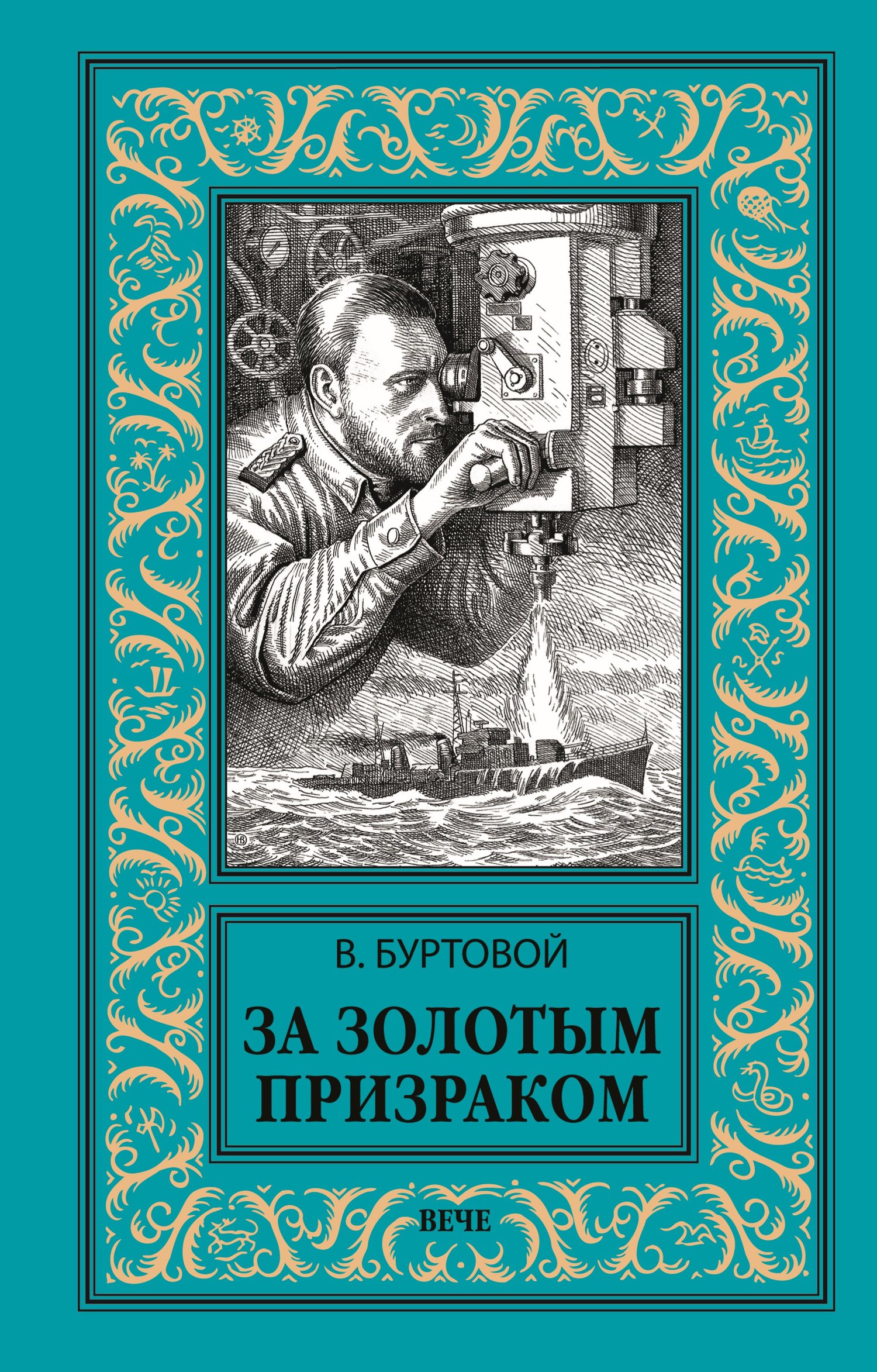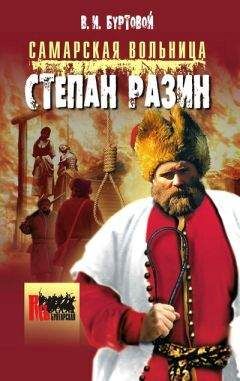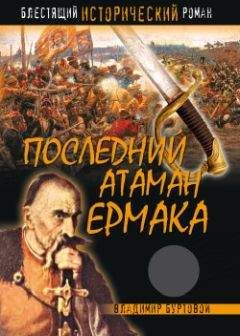приветствуя молодого драгунского ротмистра, и с легким поклоном представился:
– Это память и печать дьявола на всю жизнь мне, ротмистр Трофим, – хрипловатым голосом ответил сотник, похлопав вороного коня по шее, чтобы не косился на коня Михаила Хомутова. – А приключилась беда в сражении с литовцами при Кушликах, осенью шестьдесят первого года. Доводилось, наверно, слышать о том позоре Руси?
– Твоя правда, сотник, я слышал, что многие наши стрельцы тогда погибли, из двадцати тысяч, что были с воеводой Хованским, чуть более тысячи укрылись в Полоцке, потеряли пушки, знамена.
– Вот тогда, в Полоцке, у нас разорвало пушку, а я при ней состоял пушкарем. Как вообще даже рук-ног не оторвало, жив остался – один Господь знает, рядом шесть человек полегло… Мне лицо пороховой гарью обожгло да глаза попортило. Вот смотрю на тебя, ротмистр, а ты будто за слюдяным оконцем стоишь, разглядеть трудно. Ладно, что вовсе со службы не уволили, оставили в обозной команде с небольшим жалованьем и казенным пропитанием, а то пришлось бы идти на церковную паперть, Христовым именем кормиться. Старые родители померли, из родни одна сестра в Воронеже, да у нее своих детишек, что тараканов, полон дом, а мужик ее в ямщиках состоит… Сам знаешь, какой в семье достаток.
– Ты прав, сотник, с ямщицкой проездной платы не построишь каменные палаты, так в народе говорят. А как называют тебя?
– Родители нарекли Панфилом, ротмистр. «Панфил – всем людям мил!» – так любила повторять моя матушка, пока я был молодым. Не знаю, мил ли я людям на этой грешной земле, а вот божью тварь – собаку ли, кошку, птицу какую, ни камнем, ни палкой не ударил… А ты, знать, в гонцах? Нелегкая ваша служба, знаю, все время в седле, в непогоду и в жару – все едино! И откуда теперь скачешь?
Михаил, узнав, что сотник полуслепой, порадовался в душе, но не без жалости к человеку, искалеченному на войне, что доведись быть сыску по князю Трофиму, сотник Панфил не сумеет точно описать его наружность и тем собьет со следа выжлецев Разбойного приказа.
– Я спешу от воеводы Борятинского, везу весть о ратной победе над скопищем разинского войска на реках Урене и Барыше, – ответил Михаил, пытаясь понять, как настроен этот ратный человек к той войне, которая пылает на доброй половине Руси и уже не так далека от царского трона.
– Вона как, почти в родных местах те баталии проходят, и может статься, многих моих знакомцев завертели военные вихри… Когда ураганом снесет крышу, за печной трубой от непогоды не укрыться, так-то! – с грустью заметил сотник Панфил. – И сколько людишек погибло? Наверно, тьма-тьмущая? Довелось слышать, что у атамана войско все больше из посадских да крепостных, так ли, ротмистр?
– Твоя правда, Панфил, служивых стрельцов да казаков и четвертой части не будет, – согласился Михаил, с интересом прислушиваясь к тому, как этот сотник говорит о восставшем народе, который пошел за Степаном Разиным и его атаманами.
– Да-а, какие из них воины, так, только лютой злостью вооружены… – И спросил совсем о другом, что к войне не имеет никакого отношения: – У тебя дома была скотина, ротмистр?
– Была, – ответил Михаил, с удивлением глянув на лицо сотника, порченное огнем, все в черных точках от пороховых крупинок, будто это лицо сперва намазали тонким слоем светлого меда, а потом посыпали сверху спелыми зернами мака. – Лошади были, коровы, а что?
– А ты часто видел, чтобы сытая скотина ревела и била ногами об ясли? [35] Нут-ка, припомни?
– Да нет, не била. Стоит или спит спокойно, а к чему этот странный твой вопрос, сотник?
– А то, что и мужик сытый не будет лягать ногами ясли и дурным криком реветь на всю Русь! – резковато ответил сотник Панфил, сомкнул жесткие, со шрамами губы и умолк, опасаясь, должно быть, дальше вести «воровской» разговор с незнакомым человеком. Михаил понял его, ласково похлопал левой рукой по его правому колену, доверительно произнес:
– Во-он ты о чем! Ты прав, Панфил, как сам Господь. Вот мне думается теперь, что после усмирения великого бунта наш государь и бояре что-то должны сделать, чтобы жизнь крестьянина, посадского, ремесленного человека хоть малость облегчилась, иначе… – и умолк, давая понять сотнику, что он опасается еще не одной такой войны на Руси.
– Дай-то Бог, чтоб утишили свое притеснение многие ненасытные бояре, чтоб так и было, как ты сказал о государе… Ого, ротмистр, по дорожным приметам впереди на холме, верстах в пяти, постоялый двор должен показаться. Там сделаем привал, отдохнем.
– Отменно, я уже изрядно проголодался, – весело откликнулся Михаил. – Обед за мной, сотник, я угощаю, чем хозяин сможет нас потчевать в своем заведении!
Сойдясь близко с сотником Панфилом, Михаил на каждом постоялом дворе угощал его обедом или ужином, а в последний день перехода к Москве стал делать вид, что ему нездоровится, ссылался на то, что приходилось почти три дня скакать верхом под холодным дождем и на ветру, вот, даже кашель открылся…
На последней стоянке, уже близ московских посадов, когда стемнело, Михаил подсел в возок и, пока Дуняша и Антипка колдовали возле костра, с шутками и смехом готовя походный ужин, успел еще раз договориться с княжной Лукерьей о том, что и как им делать далее:
– Лушенька, далее ты едешь с Дуняшей и Антипкой сама, как мы и уговорились прежде, в Коломне. Отписку князя Борятинского я вечером уже передал стрелецкому сотнику Панфилу, сказав, что за доставленные вести он непременно получит вознаграждение. Он целовал крест, обещал свезти пакет в приказ Казанского дворца, чтобы оттуда его переслали великому государю и царю Алексею Михайловичу. Я же, сославшись на недомогание, полежу здесь несколько дней, призову тутошнего знахаря с травами, а потом возвращусь спешно к полкам князя Борятинского. В каком доме буду лечиться, еще, дескать, не знаю – это на случай, ежели из Москвы вдруг надумают прислать за мной карету. Как только обоз войдет в столицу, срочно переоденусь в посадское платье, которым снабдил меня дядя Семен, поселюсь под видом скупщика овчин на постоялом дворе, видишь, он совсем рядом отсюда, а от него и до Китай-города со сторожевыми рогатками рукой подать. Если бы с наступлением сумерек караульные у застав не закрыли рогатками проезды, в том числе и Варварку, вы с Дуней уже нынче ночевали бы у твоей тетушки Просковьи, ели бы горячие щи и спали бы в чистых постелях, на пуховых подушках!
– Да-а, тетушка Просковья! – вздохнула княжна Лукерья, а сама ласково погладила руку Михаила. – Как-то воспримет она