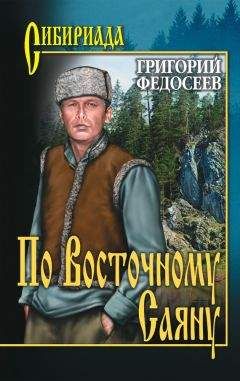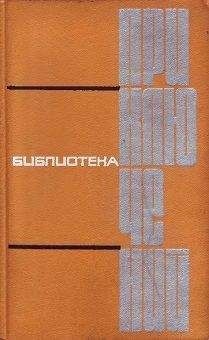3. Валентин
ЗА ЧУДЕСНЫМ ЗЕРНОМ
Повесть
Прежде всего речь пойдет о Халиме, потому что без него не было бы и рассказа.
Звали его по-настоящему Пров Игнатович Халимов, но так как родился он где-то в глубине Средней Азии, то сам себя называл по-восточному — Халимом.
Сорок лет колесил он по Азии, хватался за всякую работу, но как был бедняком, так и остался бедняком, а в 1918 году очутился в Москве и поступил в Красную армию.
И в полку его называли Халимом. Под тем же именем основался он и в «Ковылях».
Был Халим однорукий, смуглый и черноглазый, заросший до глаз черной бородой, — на вид «страшило», прямо детей пугать, но его никто не боялся. Даже Укуска, желтая собачонка, дрожавшая перед всеми, бросалась к нему на грудь и восторженно лаяла. Халим хорошо говорил по-туркменски, не плохо по-китайски. Но лучше всего рассказывал Халим на русском языке.
Ночью собирались ребята у костра, и Халим начинал рассказ.
Ребята расширенными глазами глядели на костер, и в красных огненных языках вырастали далекие снежные горы, рдели знойные азиатские дни, с треском угольков рушились замыслы басмачей, и красные войска неслись сквозь стелющийся кудрявый дым.
Так было и в этот вечер.
— Тогда явился к нам сам Фрунзе, — рассказывал Халим, сидя на теплой земле, поджав по-восточному ноги. Его черные глаза сверкали красными огнями костра, рукой перебирал он черную бороду.
Халим в Азии на базарах любил слушать сказочников, у них он научился сидеть, поджав ноги калачиком, перебирать важно бороду и рассказывать кудряво и пышно.
— В тот день явился к нам сам Фрунзе, — медленно повторил Халим. — На нем звенело оружие, меткое, как молния, и страшное, как ночная гроза. Под ним плясал конь, который мог в одну ночь примчаться из Ашхабада в Самарканд. За отца этого коня баи давали пять мешков золота, за мать — четыре мешка. А самому этому коню не было цены… Но товарищ Фрунзе, когда наш отряд завяз в Голодной степи и люди падали без пищи, своей рукой заколол коня, разделил между нами мясо, а сам пошел пешком… Я видел, как великий воин плакал…
— Халим!.. Халимушка! А ведь ты рассказывал, что лошадь у Фрунзе-то снарядом убило…
— То другую, Люба.
Халим смущенно хмыкнул и рассмеялся; смеялись и ребята. Они знали, что Халим не лгал, но правда в его рассказах не походила на привычную правду.
Как солнечный луч, ударившись в граненый край зеркала, ложится семицветной дорожкой, так и простые события становились цветными и необыкновенными в рассказах Халима.
— Не сердись на меня, — ласково сказала Люба, — я знаю, что Фрунзе был необыкновенный человек.
Все долго и молча; глядели в звездное небо.
Наконец шевельнулся Костя.
— Подбрось, Люба, веток. Посветлее будет.
Сухой хворост вспыхнул, осветив черную бороду Халима и два смуглых, похожих друг на друга лица — Любы и Кости — пятнадцатилетних близнецов.
Черный ночной воздух еще не остыл после пламенного дня. От накаленной степи шел душный зной. Сухие травинки стояли жесткой щеткой.
Уже месяц после бесснежной зимы не выпало ни одного дождя.
Безнадежно-ясное, блестящее небо обещало на завтра такую же тяжкую сушь.
За светлой чертой костра, в темноте переступали спутанными ногами лошади. Измученные животные страдали от жары и тщетно искали траву посвежее.
— О дожде и не думай, — с сердцем сказал Костя, отводя глаза от блистающих звезд.
— Ясно — засуха.
— Мне, Костенька, страшно…
— Ну, Люба… ты уж не очень… Дождик еще будет… И потом теперь — не как прежде… Помогут…
— А тебе, Костя, не страшно?
Мальчик помолчал и тихо ответил:
— Страшно.
Огонь потускнел, сжался маленьким пятнышком.
Мальчик еще тише заговорил:
— Я целый год под подушку хлеб прятал… Наберу мешочек сухарей — стыдно станет — высыплю. А на другой день опять суну корку…
— Знаешь, Костя, а я иногда проснусь ночью, и все мне мерещится, что за окном кричат, хлебушка просят… И я тоже — не хочу, а начинаю просить. Сначала тихонько — про себя, а потом громче да громче, пока в голос не зареву! Помнишь, Халим, как ты со мной по ночам возился?
При тусклом свете костра Халим заметил слезы в глазах девочки.
Он вскочил и подошел к Любе.
— Ай, дочка, ай, трясогузка! Днем послушал тебя, как ты с Павлом Ивановичем разговаривала, — думал, ты умная, а ты к вечеру, как Укуска, на звезды воешь!
— И то — не скули. Что было, не повторится, — вмешался Костя.
— Костя верно говорит — и дождь пойдет, и время теперь не такое. Брось, дурочка!
Голос Халима звучал уверенно. Всем стало веселей, легче и как будто прохладнее. Сухие ветки снова затрещали в огне, черная ночь отступила дальше за освещенный круг.
Костя лежал на спине и глядел на высокие звезды. Внезапно, он насторожился. Далеко в темной степи раздался какой-то звук. Вскоре он перешел в гул, стал нарастать и приближаться. Бежал поезд.
Костя и Люба прислушались к смутному шуму. Им хотелось уловить громкое дыхание паровоза, дребезжание вагонов, визг рельс.
Точно так несколько лет назад, 11 марта 1922 г., близнецы прислушивались к бегущему поезду. В ту ночь, на 11 марта, так же, как сейчас, подходил поезд к маленькой затерянной станции. Состав был старый, расхлябанный. Паровоз останавливался, тяжко вздыхая на каждом полустанке.
В этом поезде ехал красноармеец Пров Халимов. Халимов только что выписался из госпиталя, где ему отрезали руку, изувеченную на туркестанском фронте. Теперь вместо нее болтался пустой рукав.
И вот на затерянной, случайной остановке, название которой не приметил Халим, увидел он двух умирающих от голода детей.
Дети не плакали, не просили хлеба. Они сидели у пустого холодного кипятильника и тупо глядели перед собой. Равнодушно проходили люди мимо. День за днем, неделя за неделей тысячи голодающих шли через этот край, — к ним пригляделись… Ни жалости, ни хлеба не оставалось.
Страшный голод начался в 1921 году и еще не кончился. Засуха съела урожай всего края и выгнала целые деревни побираться на большую дорогу. Родители близнецов умерли, и дети-сироты каким-то образом прожили этот год.
Быть может оттого, что близнецы были похожи друг на друга и были одинаково жалки, им перепадала иногда лишняя корка, и они добрались до маленькой затерянной станции. Ее названия ни Люба, ни Костя не запомнили. Было это где-то очень далеко от Волги.