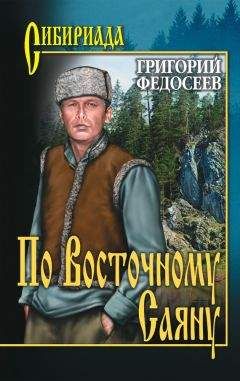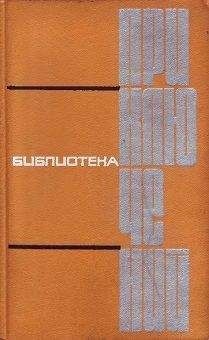— Так, — сказал седобородый. — Я вижу, что там, где ты живешь, бедные работают на богатых. Значит, нам нечего ехать дальше, — обратился он к своим товарищам.
И они повернули своих верблюдов обратно — в ту сторону, где в семи днях пути лежала пустыня.
На прощанье каждый из всадников подарил пастуху по золотому украшению, чтобы он уплатил злому хозяину за потерянного барана.
Долго глядел бедный пастух им вслед, пока не скрылись верблюды за степными колючими травами.
На рассвете пастух рассмотрел подарки.
На всех трех украшениях сияло солнце, и кудрявились сплетенные в венок пшеничные колосья.
Одним подарком пастух расплатился с хозяином, другой продал, чтобы купить жену, а третий оставил себе.
И я сам, ребята, видел эту золотую штучку, видел золотое солнце и золотые сплетенные колосья. Штучка занятная, вроде медали или застежки.
— Халим, — прервал нетерпеливо Костя, — да что же особенного было в солнце и пшенице?
— А дело-то в том, что у нас старики от своих дедов слышали про чудесное зерно. Оно растет посреди горячей пустыни. Ни речки, ни озера там нет, ни дождя, ни росы не бывает. И растет среди песков горючих золотая пшеница, солнечного зноя не боится, засухи не страшится. Сеет, жнет и хранит это зерно маленькое безвестное племя, которое от всего мира в горячей пустыне прячется. И будто знак у этого племени — как у нас пятиконечная звезда — солнце и колосья пшеницы.
— А разве у азиатских племен бывают такие знаки? — перебил Витя.
— А как же! Там у каждого рода свой знак — цветок какой-нибудь или животное — верблюд, скажем… Они рисуют их на кочевых юртах, ткут на коврах.
— Не знаю, что они там рисуют, ну, а вот слухи насчет пшеницы — сказки, — решительно заявила Люба, встала и потянулась. — Я спать иду.
— Конечно, может и сказка, трясогузочка, а только я своими глазами видел золотую застежку.
— Что ж, Любаша, — задорно вмешался Витя, — вот папа ищет, ищет зерно устойчивое, и ты с ним за компанию десять лет промучаешься. А там — за горючими-то песками, может быть, тысячу лет назад это самое нужное зерно нашли! — И Витя ехидно прибавил: — Вы здесь семена на сто манеров по сто раз сеете, а там намолоти с поля готовую пшеничку — и сей в свое удовольствие на самом солнцепеке…
Витя с громким смехом юркнул в темноту. Какая-то испуганная пичуга с писком взвилась в темноте у него из-под ног.
Солнце выкатилось из-за оврагов в назначенное ему время и поползло по небу, уже бледному от зноя.
Низкий, длинный дом белел своими стенами, в метр толщиной, и в доме — даже в эти жаркие дни — было прохладно. Вероятно, построенный в тревожные времена казацких восстаний и турецких набегов, он служил тогда чем-то вроде крепости. За домом еще сохранились остатки старинной пушки, и там издавна любили играть ребята.
Когда Павел Иванович Орешников приехал в Ковыли, он увидел выбитые окна, сломанные двери, рухнувшие печи. Просторный белый дом в революцию растерял и своих хозяев — сытых, солидных, сидевших в Ковылях еще со времени царицы Екатерины, растерял и кусты роз, выписанные из-за границы, и мебель, точеную руками крепостных мастеров, и почти весь фруктовый сад.
На прощанье хозяева попытались выстрелом из пушки пугнуть мужиков. Но старое орудие разорвалось от выстрела, а мужики не испугались.
Хозяева исчезли. Полуразрушенный дом продолжал стоять в погибавшем саду, где искалеченные деревья протягивали к редким прохожим свои изуродованные ветки.
Но вот за синим степным горизонтом смолк грохот гражданской войны, и около старого дома запахло махоркой, зацокали топоры и молотки…
Если год назад еще была нестерпимая жажда: разрушить поместье сытых и постылых хозяев, то теперь явилась другая жажда — чинить, исправлять, строить.
Ставили новые печки, исправляли крышу, очищали колодцы, белили наново низкий, длинный прохладный дом. В саду Павел Иванович лечил деревья, а четыре уцелевших куста роз были пересажены ближе к террасе. Плешину в саду, где разросся бурьян, отвели под огород, а старую пушку уволокли в дальний угол за сиреневые кусты, туда, где лохматилась крапива.
Теперь — в это ясное утро — сад увядал под лучами ползущего в бледном небе солнца, и пушка лежала, как блестящая черепаха, среди высохшей крапивы.
Павел Иванович шел через сад. Он был рыжеволос, высок, плечист и спокоен. Рядом с ним семенил щуплый человек, вытирал ладонью мокрый лоб и сердито приставал к агроному:
— Ты учился: ты должен знать средство! Что же, пропадать, значит, хлебам? Мы и то пересевали, — а теперь хоть сам в землю вместо зерна ложись!
— Чудак человек! — возражал Орешников.
Он шел ровной походкой по дорожке к сараю, который Люба с гордостью называла лабораторией.
— Что теперь сделаешь? Говорил — окапывайте канавами участки возле речки. Поленились!
— Когда же мне время было?
— Советовал часть посевов под кукурузу взять, — на дыбы встали!
— Павел Иванович, да кто же теперь ее, проклятую, ест?
— Не так уж плоха она, Клим, в неурожай годится.
— Эх, ты!.. Ну, ладно, теперь-то, теперь как быть? Сказывай. Помог же ты нам в позапрошлом году, когда червяк на хлеб бросился.
— Когда в силах моих было, помог. На червяка средство есть. — Павел Иванович остановился. Губы у него дернулись. — А вот от безводья…
Клим остановился и визгливым от негодования голосом закричал:
— Ну, так я к попу пойду! Пускай за мои деньги дождя просит, ежели ты помочь не хочешь!
Павел Иванович рассмеялся.
— К попу не пойдешь, я тебя, Клим, не первый день знаю. Нескладный ты, а в науку веришь! Только, братец, наука не яблоко: сразу не укусишь.
— Дай мне твою науку, я уж ее укушу. Не беспокойся!
— Ладно. Коли не шутишь, приходи хоть сегодня к вечеру. Поговорим. А сейчас мне в город надо! Ты покамест с моей помощницей посиди.
На пороге застекленного сарая показалась Люба.
— Ладно, посижу, — согласился Клим. — Запарился я с тобой. Прощай, Павел Иванович! — И уж успокоившись, Клим добродушно обратился к Любе: — Зря на меня Павел Иванович говорит, будто я свое поле плохо содержу.
— А что хорошего, Клим? Я вчера смотрела: никуда не годится. И так неурожай, а у тебя еще осот да будяк по всему полю лезут. Словно ты их нарочно вместо пшеницы сеял!
— Будя-я-як! Это ты верно говоришь: прет он. А что ж мне с ним делать?
— Головки отрывай, не давай обсемениться… А почему ты для озими ранний пар не заводишь?
— Чего с весны торопиться, лошадь мучить? Я и к осени успеваю землю перепахать.