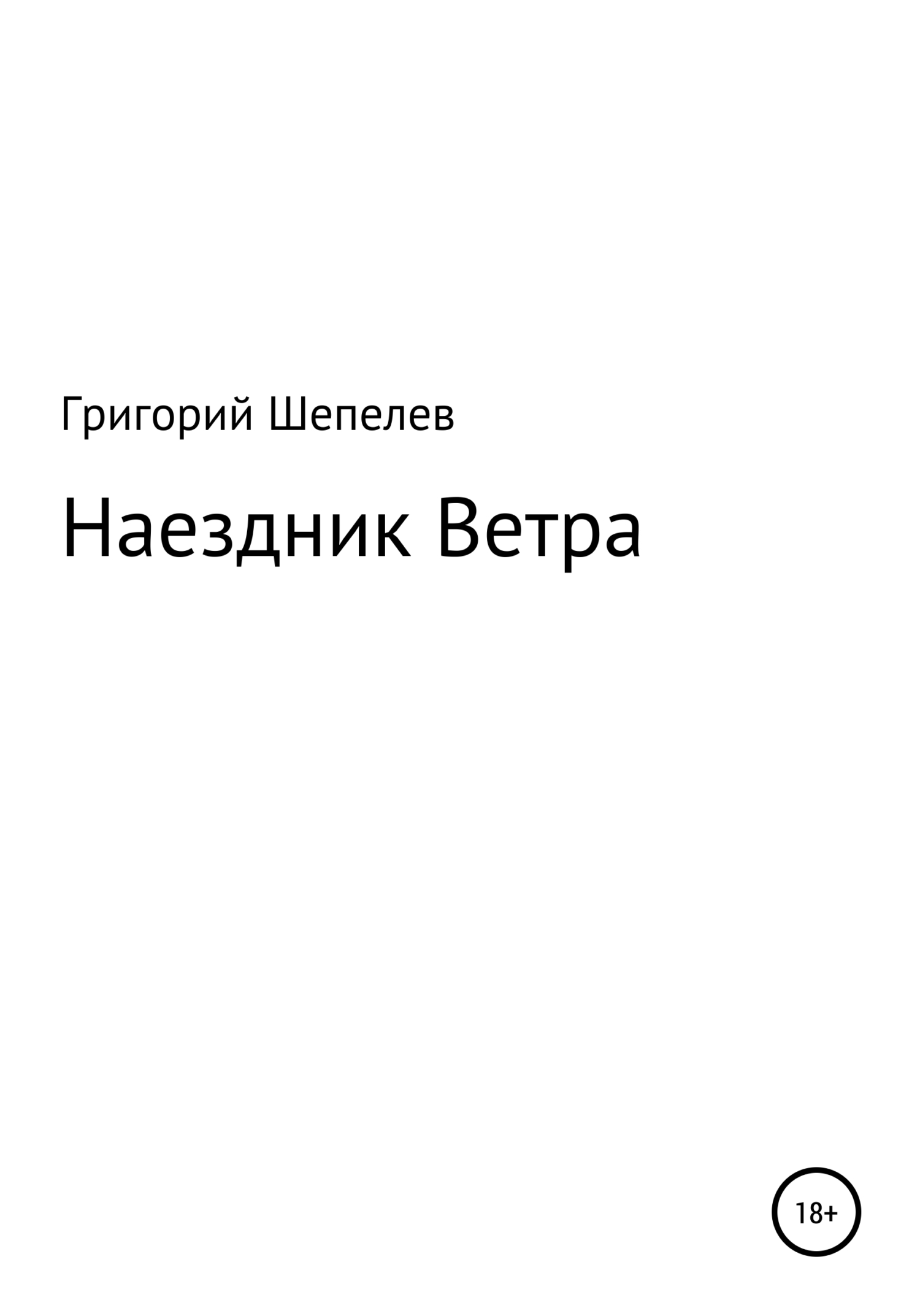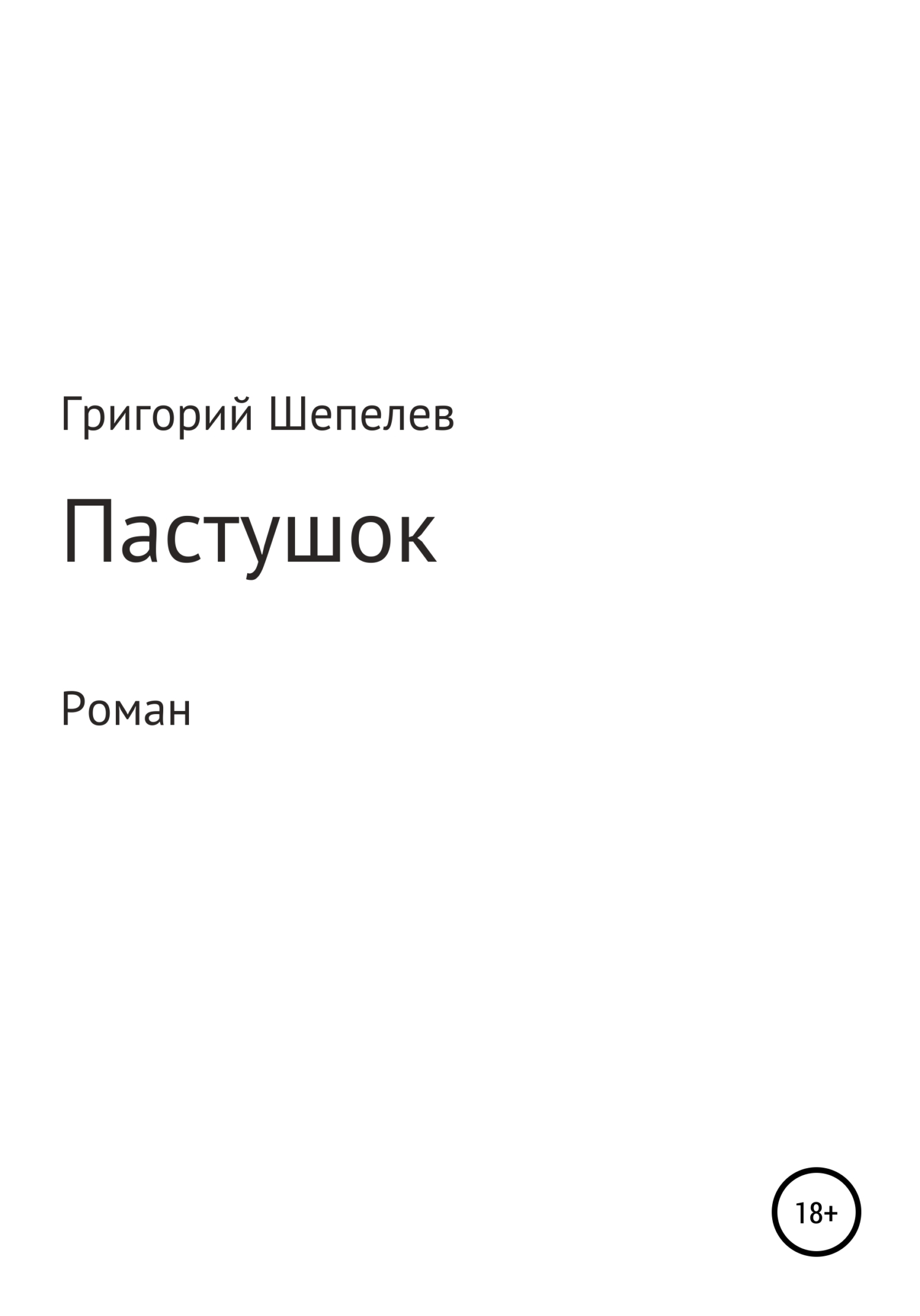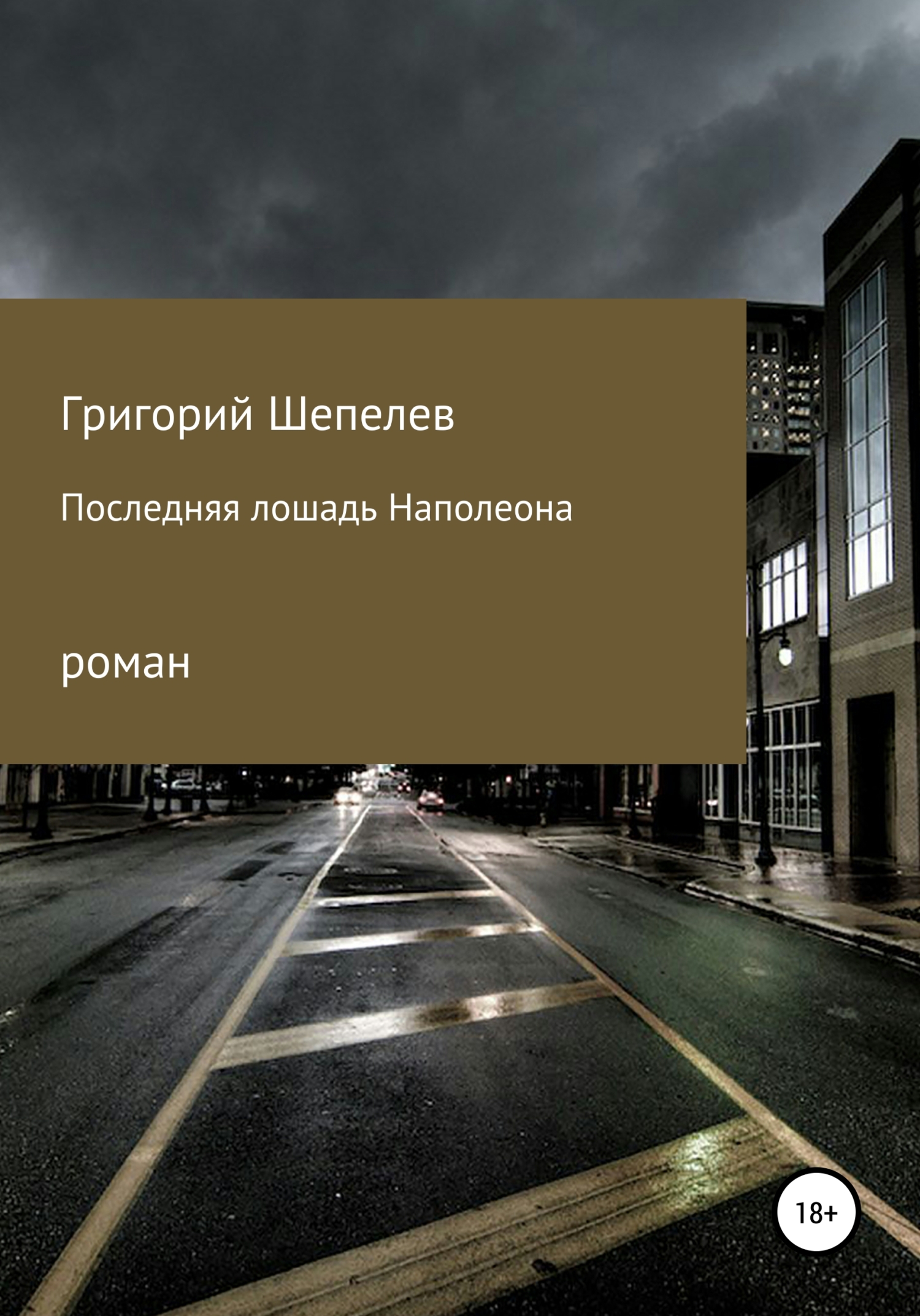на одной ножке, как оловянный солдатик, потом – по лестнице этой сраной! Хотела тут постоять, отдышаться малость, да прислонилась сдуру к двери!
Отдав шефу ключ, Кременцова поползла в ванную.
– Да ты где поранилась-то? – вскричал Хусаинов, только теперь заметив, что лейтенант оставляет кровавый след.
– Сейчас расскажу!
В ванной Кременцова кое-как встала, сняла колготки и показала подошву правой ноги. На ней было пять глубоких колотых ранок, располагавшихся поперёк. Хусаинов кинулся было вызывать Скорую. Кременцова этому воспротивилась весьма бурно, и он, вернувшись, начал за ней растерянно наблюдать. Она взяла мыло, промыла ранки тёплой водой из душа, распаковала бинт и стала обматывать им ступню, злобно тараторя:
– Сраный комод! Уж не знаю, что она в нём хранит – наверное, кирпичи! Толкая его, я сломала шпильки – сперва одну, а потом другую! Естественно, психанула, швырнула туфли в мусоропровод. Иду обратно с ключом босая, сшибаюсь с какой-то девкой – чтоб ей, паскуде, с поносом в лифте застрять, и она роняет мне под ноги гребешок! Гребешок – изогнутый, упал, сука, зубцами кверху, и я на них наступила. Острые – жуть! Боль – адская, кровь херачит тремя ручьями! Девка – в истерике: извините, простите! Я её – матом!
– А как она выглядела? – взволнованно перебил Хусаинов.
– Длинная, рыжая! К морде я не присматривалась, но, кажется, неплохая морда… Ох, твою мать! Кровищи-то сколько вытекло!
– А одета во что? – спросил, прибежав из кухни, Артемьев.
– Меньше всего мне хотелось запоминать, во что эта тварь одета! Кровь, говорю, хлестала, как из свиньи! И до сих пор хлещет.
Завязав бинт, Кременцова поставила ногу на пол и обратилась к Артемьеву:
– Дайте тапки вашей жены!
– У неё, по-моему, тапок не было…
– Твою мать!
Прихромав босиком на кухню, Кременцова цапнула со стола бутылку вина, присосалась к горлышку и зачмокала.
– А ты где взяла бинт? – спросил Хусаинов. Его помощница не спешила с ответом. Лишь усосав бутылку, утерев рот рукавом мундира и плюхнув попу на стул, промямлила:
– У Андрюшки, шофёра вашего! Что же мне теперь делать?
– Я донесу тебя до машины и отвезу в травмпункт, – сказал Хусаинов, – но только сначала загляну к этой… как её…
– Загляните, – буркнула Кременцова и потянулась к стоявшему на другом конце стола коньяку. Этакое дело Артемьеву не понравилось. Он прищурил глаза, заскрипел зубами, однако этим и ограничился, рассудив, что если глупая кукла с фарфоровыми глазами годам к двадцати пяти получила звание лейтенанта – значит, её могила исправит. Понаблюдав, как она сосёт прямо из бутылки его любимый коньяк за полторы тысячи, он не то вздохнул, не то застонал и уплёлся спать к себе в комнату. Алексей Григорьевич, хлопнув дверью, пошёл на третий этаж.
Было без пятнадцати девять. От коньяка, а также из-за того, что день выдался тяжёлым и нервотрёпочным, Кременцовой сделалось грустно. Закинув ноги на газовую плиту, она закурила. Потом зевнула, рискуя вывихнуть челюсти, и – как будто глотнула ещё тоски. Захотелось плакать. Двадцать пять лет! Почти двадцать шесть. Ни мужа, ни жениха. Ещё бы – с таким характером! Мать с отцом давно умерли, положив здоровье на то, чтоб она кое-как окончила и спецшколу с углублённым изучением французского языка, и курсы английского, и спортивную школу, и музыкальную – по классу гитары, и юрфак МГУ. Вдобавок, они оставили ей двухкомнатную квартиру на Октябрьском поле. Лучше других наук пошло у неё дзюдо. Упорные тренировки не отразились на привлекательности её фигуры. Мускулы развились стальные, но не объёмные. Её вряд ли можно было назвать красавицей из красавиц, но ни один здоровый мужчина, даже самый капризный, не погнушался бы её обществом. Тем не менее, что-то всё же не клеилось – там, внутри, откуда ползла на глаза тоска, давя из них слёзы. Причиной тому был секс, всегда вызывавший у Кременцовой серьёзнейшие душевные потрясения. Она начинала либо сильно любить, либо ненавидеть каждого человека, с которым у неё происходил половой контакт. И то, и другое было мучительно. посему она относилась к сексу, как к операции, а точнее – как к ампутации: не отрежут – умрёшь, отрежут – измучаешься. Видя поздними вечерами стоящих на Тверской девушек в мини-юбочках, Кременцова кусала губы от лютой зависти к ним. Для них секс – работа. Да, мерзкая, но ведь мерзость не растворяется в их крови! Она, в худшем случае, липнет к коже. Ополоснулась под душем, и снова хочется жить. Ах, если бы у неё всё было так просто! Если бы у неё всё было так замечательно!
Кременцова опять зевнула, и, чтоб развеять мрачное настроение, принялась разглядывать окружающие предметы. Все они были старыми и облезлыми, от солонки до холодильника. Всюду – грязь, окурки, обрезки сыра. В раковине – гора немытой посуды. Стол весь прожжён, линолеум – продран. На холодильнике, поверх кипы журналов, лежит том Гоголя. Первый том – «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». Он заложен окурком, где-то уж на последней четверти. Виден жёваный фильтр. Интересно, кто из них читал Гоголя – этот тощий ханурик или его жена? Попытавшись представить их за этим занятием, Кременцова свесила голову и уснула.
Поднял её – да, сперва поднял, затем разбудил, голос Алексея Григорьевича. Слетая со стула, лейтенант Кременцова ногой задела стоявшие на плите кастрюлю и чайник. Те с адским грохотом полетели на пол, и по всей кухне разлился прокисший борщ. Раздражённо глянув на очумело моргающую помощницу, Хусаинов крепче прижал телефонную трубку к уху и продолжал:
– В этом же подъезде, этажом ниже. Мартынова, Вероника Валерьевна. Задушили. Она была свидетельницей по делу. Я тут один, с Кременцовой. Жду.
Глава четвертая
Чёрный «ГАЗ-31 02» с включённой сиреной летел по Главной аллее Измайловского парка в сторону Первомайской. Андрей, заслуженный мастер спорта по автогонкам, превосходил самого себя. Юля Кременцова сидела сзади, судорожно сжимая двумя руками ручку двери, и не отрывала глаз от окна. Видела она какие-то смутные очертания и огни, точнее – их вихрь, очерчивавший вокруг изменчивые, головокружительные спирали. Сквозь вой сирены время от времени прорывались жалобные гудки подрезанных и едва не задетых автомобилей. У Кременцовой душа из пяток не поднималась ни на секунду. Её постылая жизнь внезапно ей стала очень мила. «Мне двадцать пять лет!» – думала она, – «Только двадцать пять! О, боже! Как страшно!
Алексей Хусаинов, сидевший рядом с водителем, говорил по радиотелефону новейшей модификации. Он звонил руководству, звонил Перинскому, звонил Бровкину – своему второму помощнику, и звонил Хомяковой Ольге – той самой женщине, у которой Артемьев врезал замок накануне. Дольше всего Хусаинов общался именно с нею. Он называл её Оленькой, успокаивал, убеждал и как бы шутя предостерегал, что если ей будет присвоен официальный