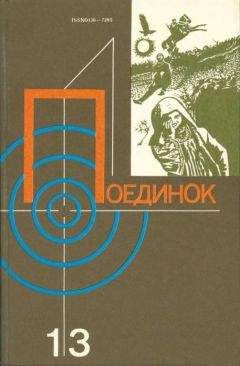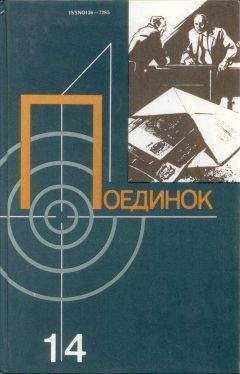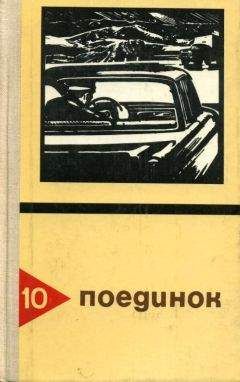Чехословаки держат нейтралитет, и Жанен с ними вместе. У адмирала дрожит подбородок, когда он говорит с Жаненом по телефону, но, ничего не сделаешь, говорит вежливо. Зато Уорд — герой дня. Его пушки спасают столицу новой империи. Город на военном положении, с шести часов ни души на улицах, приказано почему-то даже завешивать окна. Тьма, вздрагивают иногда стекла. Адмирал ходит по кабинету. Только что всадил шприц, глаза блестят. Говорит:
— Обманутые, одураченные люди... Виноваты они? Нет, они не виноваты. Сатанинская гримаса истории. (Поднял палец, — дрогнули стекла от пушечного выстрела.) Выстрел, направленный в грудь Ленину, попадает в одураченного им железнодорожного рабочего. Быть может, я страдаю больше всех в эту ночь. Да, Мосолов, это бремя власти... Они говорят о классовой борьбе... Какой еврейский вздор! Есть Россия, наша родина, и человеческие уровни, подымающиеся, опускающиеся, как морские волны... И есть любовь, да, любовь...
Для какого черта он нес всю эту чушь, не могу понять до сих пор. Он был неглупым человеком. Только на третьи сутки он отпустил меня домой. В городе все кончено. Тишь и гладь, божья благодать. А кроме того, выяснилось (неофициально, конечно), что красильниковским отрядом было расстреляно, повешено и утоплено в Иртыше более пятисот человек рабочих и бежавших из тюрьмы красногвардейцев. На берегу Иртыша зарублены шашками, застрелены и зарыты в сугробы девять членов Учредительного собрания и несколько десятков, взятых из тюрьмы и выловленных из города. Эти-то попали как кур во щи, — в свое время они больше всех старались спихнуть Советскую власть и сами же вырастили сибирских атаманов, генералов и самого Колчака.
Закржевский не без литературного дарования. Он затесался в отряд Красильникова и ночью в атаманском штабе (в Куломзине, за Иртышом) записал сценку столь отвратительную, что привожу ее целиком...
«Изба. Огонь в лампе вздрагивает от выстрелов за окошком. Но кажется, все уже кончено со сволочью. На столе четверти со спиртом, огурцы, остывшие пельмени. Все пьяны и устали адски. Генерал Шерстобитов читает Надсона, — он не расстается с этой книгой. Герке кончает писать протокол. Атаман валяется на постели. Рядом в кухне пьяные казаки. У стены стоит железнодорожник. Руки связаны за спиной. Явный большевик. Надоело допрашивать, о нем как-то забыли. Картина чрезвычайно сочная. Шерстобитов читает:
Тихо замер последний аккорд над толпой,
С плачем в землю твой гроб опустили.
За окном залп, — кончаем с последним. Атаман ржет.
— Вот это так аккорд!
Железнодорожник говорит тихо:
— Атаман, отпусти мою дочь.
Атаман скрипит пружинами:
— Ты говори со мной по душам. Я человек простой, русский. Ты мне душу переверни... Говори мне: «Григорий Александрович, отпусти мое родное единственное дитя».
— Дочь не виновата, она не знала, что я здесь скрываюсь.
Начштаба Герке читает по протоколу:
— «Допрошенный в числе прочих бунтовщиков Иван Лутошин показал...» Это ты Иван Лутошин?.. «Показал, что он и дочь его Антонида двадцати двух лет, девица учительница, состояли в партии большевиков».
— Я этого не показывал, — торопливо говорит Лутошин, — я один.
Генерал Шерстобитов с досады, что его прерывают, произносит громовым голосом:
Спи спокойно, моя дорогая.
Только в смерти желанный покой,
Только в смерти ресница густая
Не блестит безнадежной слезой.
К Лутошину:
— Чьи стихи? (Потрясает книгой.) Революцию делаешь, а национальных гениев не знаешь... Шомполов! (Но от резкого движения валится вместе с книгой со стула.)
Атаман хохочет. Герке, не обращая внимания, пишет. Генерал Шерстобитов встает на четвереньки, отыскивает книгу и опять усаживается. Лутошин тихо, настойчиво:
— Атаман, отпусти дочь.
— Так дочь, значит, невинна? — спрашивает атаман. (Герке фыркает в бумагу.) — Хорррошо, проверим... Генерал Шерстобитов, это ты у нее под подолом нашел большевистские прокламации, или после тебя казачки напали на эту находку?
— Какие прокламации? (Шерстобитов не понимает юмора.) Я нашел непорочность и поступил с ней по закону военного времени.
— Гадина! — кричит Лутошин. — Кат, палач!
Мы все смотрим на него с удивлением, Красильников приподымается:
— С тобой интеллигентно разговаривают. Хам, другого захотел? (Всовывает в рот два пальца и свистит так, что трещат перепонки.) Казаки! (Появляются два казака.) Поддай ему свежего воздуха!
Лутошина утаскивают в кухню, — работают шомпола. Все как полагается. Атаман, видимо, рассчитал: когда начнут шомполовать отца — заговорит учительница. Но она продолжает валяться у стены, не приходя в сознание. Все это в конце концов однообразно и довольно скучно. Острота положений приелась. Лутошин в кухне мычит. Мы выпиваем спирту под огурцы. Шерстобитов опять декламирует. Входят полковник Волков и поручик Дурново. Они из города и сообщают новости:
— Уорд повесил на мосту трех большевиков... Демократ, демократ, а начинает привыкать к нашей обстановке... Тюрьму очистили на ять... По этому случаю в городе среди либеральных гадов паника: кто-то помечает парадные двери мелом, тремя крестами... Купечество выставило в окнах иконы. Но чехословаки — вот сволочи — опять начинают гугнить о революционных свободах... Награбили золота, напились как клопы, и, видите ли, им еще нужна в России демократическая республика... Пора осадить.
Опять пьем спирт. Волков спрашивает:
— А у вас как дела? Сколько в расходе?
Герке, переворачивая ведомость:
— Расстреляно пятьсот тридцать один.
— Здорово!
— А по-моему, немного, — хохочет атаман, — даже на хороший бой не хватит.
Казаки опять втаскивают Лутошина. Выкатив глаза, налитые кровью, он хрипит:
— Я прошу меня расстрелять.
— Барон Герке, — говорит атаман, повалившись на кровать, — агитатор Лутошин Иван?
Герке:
— В списке есть.
— Как помечен?
— Повесить.
— Повесить? — Атаман зевает и трет ладонью лицо. — Ничего не могу поделать, голубчик. Как же я могу тебя расстрелять, когда в протоколе поставлено повесить... Казаки-и, уведите товарища налево.
Звонит телефон. Герке берет трубку и сейчас же почтительно приподнимается, — говорит верховный правитель... Долго слушает... Звякнув шпорами, кладет трубку.
— Неприятность, господа... Генерал Стефанек от имени национального комитета чехословаков предъявил Колчаку ультиматум о неприкосновенности бежавших из тюрьмы членов Учредительного собрания, всех эсеров и меньшевиков.