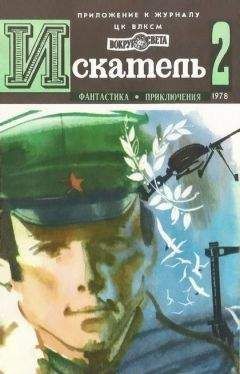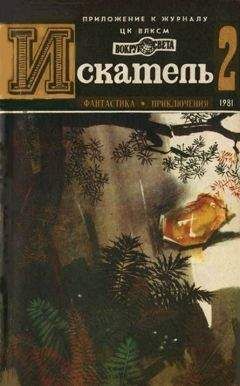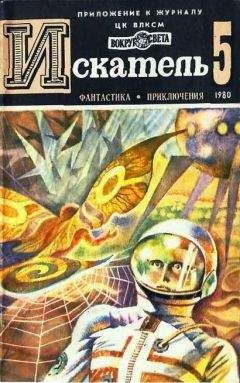Мы перестали копать, вопросительно посмотрели на старшину. А старшина уставился на меня, словно спрашивал, что, мол, научный руководитель, обмишурился?… Трудно сказать, сколько бы мы так вот играли в гляделки, если бы от курганчика, на котором сидели девчонки, не послышался взволнованный говор. Мы все повернулись туда и вдруг вздрогнули от леденящего душу вопля.
Я давно заметил, что человек лучше всего определяется по отношению к крику другого человека. Эгоистичные пацаны тотчас кинулись врассыпную. Все мы, стоявшие с лопатами, застыли на месте, не зная, что делать. И только старшину как ветром сдуло — кинулся туда, на крик. Поймал, грубо схватил за плечи бежавшую навстречу Нину.
— Там!.. — Нина спряталась за старшину, как за столб.
Я сразу подумал, что тоже мог бы побежать и так же вот схватить Таню. Но бежать было уже поздно: паника опадало, как грунт, вскинутый взрывом.
— Там! — твердила Нина. — Ремень…
Смущенная подошла к старшине Таня. Из ее взволнованного рассказа стало ясно, что произошло. Они спокойно сидели на своем бугорочке, ковырялись в земле. И вдруг Нина вытянула странный плоский корешок. Наклонилась поближе, чтобы рассмотреть, а Волька как раз в этот момент и сказала, что это ремень того самого пограничника, которого ищут, что он тут и лежит, мертвый.
Мы подошли, быстро разрыли остатки ремня и выкопали совсем зеленую, почти черную красноармейскую бляху со звездой.
— Точно, тут и было, — сказал дед обрадованно. — Еще я подумал: хорошая позиция у Ивана, вся дорога как на ладони.
И в самом деле, с этого места дорога просматривалась лучше. А вот бухту совсем не было видно, только море. Это, наверное, и смутило меня в прошлый раз: как же выбирать позицию, если не видно самого главного — бухты. Но у тех, довоенных, пограничников, должно быть, имелся еще и другой окоп, специально для наблюдения за бухтой. И бугор меня смущал: кто ж на таком пупе окоп копает? И только теперь я подумал, что это не окоп вовсе, не боевая позиция, а прежде всего наблюдательный пункт. А ему самое место повыше.
Начав копать, мы сразу поняли: точно, тут. Вместе с щебенкой с лопат посыпались гильзы, большие, с узким горлышком, довоенные. Мы складывали их горкой на подостланную газету. Скоро рядом с гильзами легло несколько колец с чеками от гранат. Потом нам попался пустой диск старого дегтяревского пулемета и порванная осколком алюминиевая фляга с ясно различимыми, глубоко выцарапанными инициалами «И. К.».
Было странно и страшно держать в руках наши находки, потому что уже не оставалось сомнений, что все это следы боя, о котором говорил дед Семен. С каждым найденным предметом росла уверенность: не мог человек, один вставший против целого гарнизона без каких-либо надежд на победу, не мог он живым попасть в руки врага.
Нашли мы и ствол пулемета, бесформенный, тяжелый, как палица, с приросшими к нему окаменевшими комьями земли. А вот невыстреленного патрона не было ни одного. Это убеждало: Иван дрался до последнего. Но это же наводило на тревожную мысль: а что было потом, когда патронов не осталось? Тревога росла по мере того, как мы углублялись в землю, потому что никаких останков человека в окопе не было.
Игорь, не спрашивая разрешения, отошел в сторону, сел там и мучился в одиночестве, стараясь не смотреть в нашу сторону и поминутно взглядывая на нас. Копали мы по очереди, осторожно кроша землю, выбрасывая ее руками, потому что с длинной лопатой в узкой ячейке было не развернуться. Старшина и дед Семен коршунами нависали над ячейкой, растирая каждый ком земли. Поодаль терпеливо сидели поселковые ребятишки. Мы копались в земле уже четвертый час, а они все ждали чего-то, не расходились.
И снова подошла моя очередь лезть в ячейку. Я спрыгнул в нее и почувствовал под ногами словно бы подвижной гравий. Копнул лопатой и выложил на бруствер сразу пригоршню гильз. Стало ясно, что это дно ячейки и дальше копать бессмысленно. Я машинально ковырял сразу уплотнившийся грунт, все не веря, не решаясь вылезти из ячейки. Но тянуть дальше было уж совсем нелепо, я выпрямился, огляделся последний раз и увидел в стенке небольшую осыпающуюся ямку. Покопавшись в ней, понял, что это была ниша, в какие солдаты обычно складывали боеприпасы. Я и копался-то в расчете найти именно боеприпасы. А нашел массивный, совсем чистый от земли портсигар. Потер его о рукав и скорее из любопытства, чем на что-то рассчитывая, потянул створки в разные стороны. Портсигар неожиданно легко раскрылся, в нем, сложенная вчетверо, лежала толстая вощеная бумага. Не говоря ни слова, я потянул раскрытый портсигар наверх и выпрыгнул из ячейки. Старшина присел на щебенку, принялся разворачивать ломкий лист.
— Бумага? — оживился дед. — Кажись, та самая, та самая, кажись. Погоди-ка, очки достану.
Он засуетился, шаря по карманам. Краем глаза я видел, как оживились пограничники, сидевшие в стороне, как насторожился Игорь, начал уже вставать, чтобы подойти, посмотреть. А старшина тем временем осторожно приоткрыл листок, чтобы не сломался на сгибах. Но он все равно сломался, раскрылся широко, и я не то чтобы прочел, а как-то сразу охватил взглядом трудноразличимые карандашные каракули.
Старшина тут же снова сложил бумагу и захлопнул ее в портсигаре.
— Ничего не разберешь. Надо экспертам отправить. — И подозрительно посмотрел на меня. — Верно говорю?
— Так точно! — машинально ответил я. И лишь после этого удивился странному поведению старшины, потому что написанное на листке было ясным и понятным.
«Любый Иване зачем зря погибать сдавайся немецкому командованию они с нами обращаются хорошо гауптман Кемпке обещал простить тебя и отпустить ко мне сдавайся Иване твоя Анна Романько».
Ну и денек выдался на мою долю! Не было таких а моей жизни и, наверное, не будет. С утра — пожар, потом раскопки и эта проклятая записка. А потом и еще чище…
Едва мы вернулись на заставу, как меня вызвали в канцелярию. Там был уже старшина, что-то горячо доказывал начальнику заставы. Когда я открыл дверь, они оба повернулись и посмотрели сурово, осуждающе. И долго молчали, словно придумывали, что со мной делать — поощрить или наказать.
— Записку читал? — наконец спросил начальник. — Что в ней?
Я слово в слово пересказал содержание. Всю ведь дорогу думал об этой записке, и если вначале улавливал только смысл, то потом она вся восстановилась перед глазами. Как фотоснимок, который видел мельком и который после долгих воспоминаний врезался в память единым цельным образом. Восстановилась до каждой запятой. Впрочем, ни запятых, ни вообще каких-либо знаков препинания там не было. Из чего можно было заключить о «высокой» грамотности «соблазнительницы Анны».