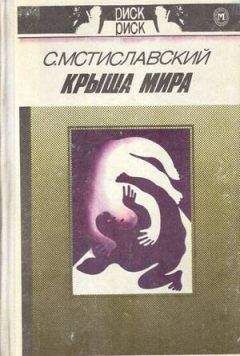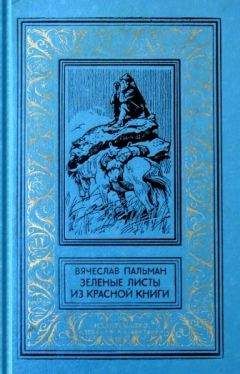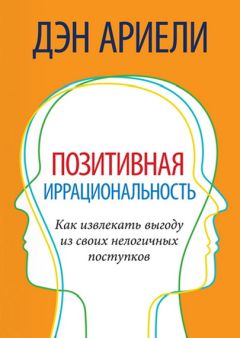Если заря обманула, море окрасивши кровью, —
Вечно нескованным будет меч, что Деве даст Имя.
Вечно нескованным будет меч, что Деве раскроет
Пояс тяжкий порфира, терновой цепи оплечья!
Горе,
Сокол залетный!»
Еще раз дрогнули нестерпимою болью струны — и замерли. Потупясь, тесным сплетенным кругом, слушали дархцы. Молчание длилось. Потом — шелестом пробежало по рядам:
— «О Соловье и Розе», Азис! Просим: «О Соловье и Розе»!
Азис сдвинул брови. И запел снова. Приторные, пряные слова… И голос опять тот, прозвучавший на торжественных обедах. Словно подменили — певца о Деве без Имени.
Кончил Азис на этот раз под гул похвал, под восторженные крики. Но безучастным и строгим было бледное его лицо, когда он отложил в сторону дутор.
* * *
Круг разомкнулся шумливо. Вносили плов и шипящий золотистым расплавленным салом каурдак[3].
Терраса взблеснула десятками кривых ножей: Дарх готовился к трапезе.
Я спросил Азиса, переламывая с ним горячую ячменную лепешку над деревянной чашкой с пловом:
— Скажи мне, мастер. Я слышал тебя не раз в Самарканде и Ташкенте: не тот был голос и не тот дутор.
Он ответил:
— Певец поет подлинно лишь перед теми, кто его понимает.
— Разве они понимают? Зачем же тогда ты спел после песни о Деве побасенку о Соловье и Розе?
Азис досадливо повел рукою к горам:
— Я думал, ты понял. Я пел о Деве для себя, путник.
— И еще, Азис: Западом звучит твоя песня — тамошним, северным морем. На Западе видишь ты Деву? Певцы Запада ищут ее — на Востоке…
— Здесь или там, — сказал он, как завороженный смотря на раскаленные угли жаровни. — Но здесь нет людей, опоясанных сталью. Я думал, может быть, они есть на Западе. И потом… песнь — о дальнем всегда. В горах и песчаной степи мы поем о море. О горах — песнь жителя равнины.
Круг опоясался огнем: зажгли факелы, утвержденные у столбов террасы по два накрест. В жаровни набросали кореньев. Белыми призраками взвился над ними благовонный, чуть-чуть кружащий голову дым.
Глухо застучали бубны — недобрым возбуждающим тупом. Вскриком взвилась, тотчас подхваченная сотнею мощных голосов, дикая, оргийная песнь. И под ее учащающийся до вихревого кружения ритм в круг неожиданно быстро, прыжком, ворвался, до тех пор не бывший среди нас, бача. Он был в женском наряде, в яркой, широкой, перетянутой поясом шелковой рубахе, в золотом шитой шапочке, из-под которой змейками сбегали черные, перевитые лентами косы. Лицо нежное, темное; томные, наглою поволокою подернутые глаза под резкой дугою сходящихся бровей. Ноги босые. До щиколотки спускаются синие, к низу золотым шнурком затянутые шальвары.
Удар — и в вихре песни и обезумевших бубнов понесся, крутясь, вдоль исступленного, тянущегося к нему круга. Мгновениями терялись очертания гибкого тела: взблеск шелка, разлет черных кос в зареве факелов. Остановился, заломил руки. И тотчас разбилась мерность песни, глухим гудом затомились бубны; под шепот и мольбы, еле переступая босыми тонкими ногами, улыбаясь жалостливой и лукавой усмешкой, чуть потряхивая косами, шел бача — мимо, мимо, не отдавая руки и взгляда никому. И снова яростью хотенья загорелись над палящими углями бубны, и пригоршнями, подымая белый дурманящий дым, летело в жаровни приворотное снадобье, и вскрики снова сливались в страстную, стыд потерявшую песнь — и, как окрыленный, снова уносился смерчем шелка и черных кос в водоворот обезумевшей пляски гибкий насмешливый мальчик.
Бача, взмахнув рукавом, сел. Бубны оборвали на ударе. Со всех сторон потянулись к «ней» («она» — звали бачу дархцы) чашки с дымящимся чаем, гроздья винограда, раскрытые персики.
Я видел: Азис бесшумно встал и вышел, унося дутор.
Бубны застучали снова, но говором сдержанным, грубою ласкою. Бача медленно поплыл по кругу, выпростав из-под шелковых рукавов длинные, белые крылья кисейной рубахи. По временам он опускался на колени: взмахивал — над избранным — тонким пологом окутанной рукой, овевая лицо, словно отгоняя заботу. И тихим шепотом влюбленного напева отвечал под приглушенный рокот бубнов «осчастливленный выбором» горец. Но бача подымался опять, смеялись белые зубы над мольбою гнавшейся за ним любовной песни. И опять, под вздохи и мерный приплеск ладоней, скользил он беспечно и задорно по кругу — до нового, минутного, избранника.
* * *
Лишь позднею ночью догорели факелы, потухли угли жаровен, притомились сменявшие друг друга певцы и плясуны. Нас отвели на отдых.
— Как понравилась тебе «она»? — спросил меня кто-то из новых моих друзей.
— Спроси об этом Азиса.
Горец недоуменно передернул плечами.
— Азис как ишан: он никогда не касался бачи.
— Потому-то я и говорю: спроси Азиса.
* * *
Проснулся рано: чуть свет вышел на откос скалы, у которого ютилась наша сакля. Дарх еще спал. Внизу, у реки, на прибрежном камне дремал сторожевой, с мултуком под рукою и ножом у пояса. Я поднялся к забытой мечети, с трудом одолевая осыпь. Резная дверь была плотно приперта. С террасы далеко раскрывалась ширь снеговых вершин, сброшенных в расселины ледников и суровой силы «турьего леса».
Слабый, певучий голос донесся снизу. Он звал капризно. Наклонившись с отвеса, я увидел бачу. В тюбетейке на гладко обритой голове (привязными были вчерашние косы), в просторном пестром халатике, с помятым бессонницей хорошеньким лицом — он топал босою ногой по каменному выступу, нетерпеливо дожидаясь сторожевого, почти бегом поднимавшегося к нему от реки. Когда он добежал, бача легким движеньем взбросился ему на плечи, и с радостным — я видел — лицом горец осторожно понес его вниз, к воде. Лицом к востоку, мальчик совершил уставное омовение. Сложил ладони: молится.
Один — во всем Дархе.
* * *
Дархцы уговаривали остаться: вечером опять будет томаша. Но я выехал в полдень. Азис спросил о пути.
— В Фергану и Дарваз? Я буду к уборке винограда у бека Каратегинского. Может быть, свидимся?
* * *
Наших застал в Гузаре за невинной забавой: кормили пловом, на пари, малярийных. Пристав побился об заклад с Фетисовым, что два самых малярийных — до полусмерти больных туземца во время припадка смогут съесть в один присест целого барана с соответствующей порцией риса в плове. Пристав выиграл: когда я въезжал в Гузар, малярийные кончали котел.
* * *
Только за Гузаром, свернув в северные ущелья, на отроги Туркестанского хребта, мы смогли приняться наконец за антропологическую нашу работу, медленно продвигаясь на северо-восток, горами, в обход Оша.