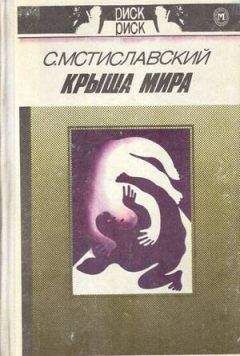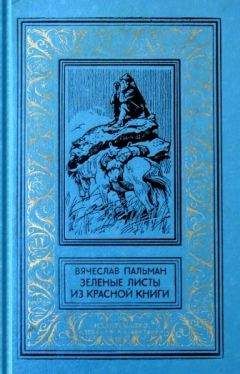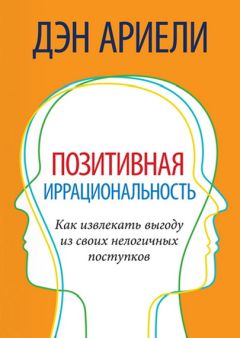Для «охоты за черепами» эти места — безнадежны. Туземцев чистой крови здесь не найти даже в самых глухих ущельях. Крепкий оставили по себе след тюрки! А тюркская кровь стойкая, не в пример иранской: сказывается через много поколений — разрезом глаз, скулами…
Жорж упрямится:
— А может, все-таки где-нибудь и найдем…
И поскольку время у нас есть, мы честно сворачиваем из одного горного тупика в другой в поисках затерянных поселений, далеко уходя в ущелья от всякого людского жилья.
Г л а в а V. ВОСКРЕШЕНИЕ СУЛТАНА БАБУРА
Мертвые горы в округе Узгема. Ни ветки зеленой, ни травинки на голых скатах. Играют переливами сбросов и сдвигов пестрые песчаники и сланцы. Хрустит, чокает под конскими копытами галька в пересохших руслах ручьев. И смеются с осыпей — мертвым оскалом — закаменелые, еще потопом осаженные в ил, словно судорогой сведенные моллюски.
Режут лицо лучи. Тяжелым, пещерным дыханием дышат в белым налетом покрытые ноздри коней угрюмые горы. Людей нет: далеко в долину отбежали от круч поселки. Напрасно рыщем по ущельям, разыскивая, нет ли где забытого картой поселка. И Жорж ворчит: не к чему приложить ни длиннотного, ни толстотного циркуля. Гейда! На Кара-Дарью, на ближайшую переправу, вброд, по отмелям… к Андижану!
В Андижане у Саллаэддина — родственник: не то дядя жены, не то его собственный племянник — его никогда ведь толком не поймешь. Да и родством здесь считаются сложно: «и по матери, и по дяде, и по козьей бабушке» (Жоржино остроумие). Счет роду ведут от колен незапамятных, так что родственников у каждого — считай, не перечтешь.
Родственник Саллы — он уверяет — личность почтенная. По-видимому, городской арык-аксакал — заведующий орошением города. По крайней мере Салла на русском своем языке так определяет: «На весь город мокро делает». Явственно на это способен один только арык-аксакал.
Уже под вечер въехали в андижанские сады. Пусто на пыльной улице. Дыбятся высоко вершины карагачей, глинобитные потрескавшиеся стены садовых оград. Западают в трещины серые быстроглазые ящерицы. Саллаэддин ведет — веселый. Ах, хороший будет ночлег! Илль-Алла! Жирный каурдак сготовит Узунбай.
И, шепотом, припадая к самому уху:
— Вина подаст. У него всегда есть в запасе — доброе ходжентское вино.
Но дорогу он знает плоховато. Шесть лет не был в Андижане — и въезжал в него прошлый раз с другой стороны, не от гор, а от большой караванной дороги. Свернули не вовремя, заплутались в проулках. Надрывным лаем провожают нас взъерошенные псы, вприскочку мчась по широким гребням окаймляющих дорогу оград. Вместо базара, на который сулил вывести Салла, — выезжаем снова в поле.
Холм. За ним, широким квадратом, очерченным рвами и валами, лагерь. Два больших барака, несколько мелких построек, сартская лавчонка, приткнувшаяся сбоку, наростом. Застыли в полусумерках фигуры часовых. Ленивые, вразвалку: время мирное, ну его к ляду, устав!
Подъезжаем.
Лавчонка торгует еще. Лущит у входа сушеный урюк кривенький солдатик. Щуплый, смешно смотреть на кожаные его чембары: ему ли в красных штанах ходить! С ним рядом — сарт, видимо, хозяин лавки: сединой перекрыта жесткая щетка давно небритых волос под узорчатой тюбетейкой. Глаза шныряют по солдату, жадные.
— Так первая рота, не вторая, на стрельбу ушел? Верно говоришь, джура?
— Вот навязался, матери твоей в душу! — сплевывает солдат. — Тебе-то что, лоб струганый! Сказано — первая. Какая тут может ошибка быть, ежели их и всех-то две: не мы на стрельбе, так первая. А ну, подсыпь, что ли, еще урючку. На вольных подработаю — отдам.
— Ешь, урус, ешь, — заторопился хозяин. Отсыпает из мешка, смотрит на нас, не здоровается. Это что же — в Андижане обычай такой?
— Салям алейкюм, — начинает, не дождавшись приветствия, Гассан.
— Алейкюм ассалям, — хмуро отвечает сарт, пряча глаза под брови.
— Как на базар дорога?
Сразу насторожился.
— А зачем вам на базар в эту пору?
— Грабить, — смеется ему в лицо Гассанка и лязгает за спиной затвором винтовки. — Видишь: нас восьмеро да десять ружей на восьмерых.
— Эй, не болтай такого, — вмешивается Салла. — Как к дому Узунбая проехать, почтенный?
— Узун-бая? — меряет сарт Саллу от чалмы до стремени. — Гости, что ли?
— Родственник.
— Э, в добрый час Аллах посылает! — захлебнулся восторгом лавочник. — Благословен день и час. Мимо вала, во-он по той дороге, что у сломанного тута, — третий поворот будет на улицу медников. А с нее…
— С нее я и сам знаю, — важно кивает головою Салла. — Благословение Аллаха.
— Да будет с вами Мухаммед и Алий.
Солдатик примеривается к нам.
— Издалека будете?
— Из Петербурга.
— Фьють! — свистит солдатик. — Такого и города нет.
— А ты сам-то откуда?
— Мы? С Бугуруслана.
* * *
Поворачиваем. Застаиваться не след. Сейчас зайдет солнце. После зари — в здешних местах сторожит малярия.
Мимо вала, мимо тутового поломанного, засыхающего дерева.
— Алла-и, Алла-и, — застонал с далекого минарета одинокий, в тиши затерявшийся голос муэдзина.
И словно в ответ — короткая дробь барабана раскатилась там, у бараков. И хор свежих молодых голосов ударил, продолжая барабанную дробь:
— Отче наш, и-же е-си на не-бе-сех!
— Мухаммад рессуль аллаи! — надрывается на своей вышке муэдзин.
— Да свя-тит-ся имя твое, да при-и-дет цар-стви-е твое!
Гассан закатывает глаза:
— Ох, хорошо!
— Что хорошо?
— Мулла кричит, солдат кричит: мой бог, твой бог. Сердцу приятно: как на перепелином бою. Кто кого перекричит, думаешь?
Торопим коней — квартал проехали, второй. Ни человечьей души. Вымер город, что ли?
Тишь. Даже конского топа не слышно: таким густым слоем лежит на проезде лессовая густая вязкая пыль. И вдруг — отрывистый гортанный вскрик: зловещий, как посвист ночной птицы. Где-то здесь, рядом, в сплетении боковых переулков. Остановили лошадей. Прислушались.
Крик повторился. Такой же отрывистый, рвущий воздух. Ближе.
— Кто-то бежит, таксыр, — шепчет Саллаэддин, пригибаясь в седле. — Держи коня. Может, недобрый кто.
Мы затаились. Из-за угла соседнего дома, шагах в двадцати от нас, вынесся, низко наклонив голову, в диком беге, босой, оборванный, в замызганной тюбетейке человек. Он не заметил нас: повернул вправо, прочь, пробежал несколько шагов, словно задыхаясь, остановился, перебирая ногами — так что тонкими струями задымились вокруг коричневых икр столбики пыли, — приложил ладони к ушам, как на молитве, и, надседаясь, крикнул тем же отрывистым, щемящим, зловещим звуком. Где-то стукнули ворота. Или — ставень. И опять мертвая тишина…