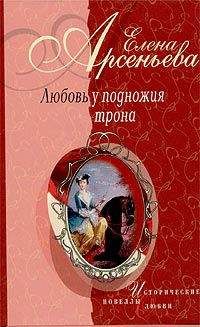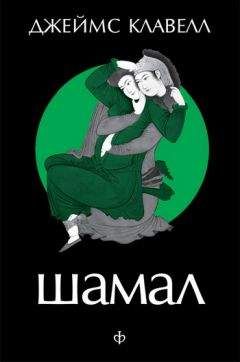— Что ты тут распеваешь? — заорал он.
— Этот фелла — мой брат, — отвечал мальчуган. — Много фелла умирают.
— Ты причитаешь над братом? Вот я те задам, толстомордый! Цыц, говорят тебе, перестань! Ты его заживо отпеваешь, дурацкая ты башка! Замолчи, или я тебя выброшу. — Он погрозил ему кулаком, и черномазый мальчишка притаился, сверкая белками.
— Нечего кудахтать, — продолжал белый человек, примирительным тоном. — Чем нюни распускать отгонял бы от брата мух. Смотри, как его облепили. Да принеси воды и обмой его, братишку-то своего. Обмой как следует, и он тебе скажет спасибо. Ну, поворачивайся! — прикрикнул он под конец, и воля его магнетически подействовала на слабый ум дикаря: мальчик выпрямился и принялся отгонять рой отвратительных мух, летавших над тельцом страдальца.
Белый всадник очутился снова под лучами палящего солнца.
Он крепко уцепился за шею двуногого коня своего и вздохнул полной грудью, но знойный воздух, казалось, обжигал его легкие; он свесил голову и погрузился в полузабытье. Очнулся он, только добравшись до дому. Малейшее усилие причиняло большие мучения, но ему все время приходилось делать эти усилия. Он поднес своему вознице стаканчик виски. Камердинер Вайсбери притащил раствор сулемы, и он тщательно обтерся дезинфицирующей жидкостью. Потом проглотил порцию хлородина, пощупал сам себе пульс, поставил себе термометр и повалился на постель с подавленным стоном. Время было не позднее, а он уже за этот день успел совершить три обхода. Он кликнул слугу.
— Поставь-ка трубку да погляди, не видать ли там «Джесси»?
Слуга вынес на веранду длинную подзорную трубку и принялся обыскивать море.
— Там, фелла, шхуна, далеко-далеко. Там, фелла, «Джесси», — объявил он.
У больного плантатора отлегло от сердца.
— Коли это «Джесси», получишь от меня пять пачек табаку, — промолвил он.
Водворилось молчание. Больной насторожился. Спустя некоторое время слуга нерешительно произнес:
— Может, «Джесси», может, другой, фелла, шхуна.
Хозяин свалился с кровати, дополз на коленях до стула. Ухватившись за его спинку, он приподнялся. Опираясь все время на стул и продвигая понемногу его вперед, он осилил расстояние до веранды. От напряжения пот градом катился с его лица и рубашка промокла. Кое-как добравшись до кресла, он опустился в него в состоянии полного изнеможения, но минуту спустя привстал и взялся за трубку. Слуга положил конец подзорной трубы на перила веранды, и хозяин уставился на море. Вскоре он уловил в поле зрения белые паруса и начал пристально разглядывать шхуну. — Нет, это не «Джесси», — произнес он совершенно спокойно. — Это «Молекула».
Он поднялся с кресла и пересел в качалку. Дом стоял в трехстах футах от берега моря, где пенились небольшие волны. С левой стороны виднелась белая линия прибоя, отмечающая устье реки Бейльсуны, а за нею выступали суровые очертания острова Сэйво. Прямо впереди, за проливом с дюжину миль шириной, возвышался остров Флорида: а с правой стороны на огромном расстоянии отсюда в туманной дали маячили чуть заметными точками берега Малаиты [6] — дикого острова, притона разбоя, грабежа и людоедства, родины тех самых двухсот рабочих рук, которых завербовала для себя Берандская плантация. Между домом и морем параллельно береговой линии шла тростниковая ограда поместья. Ворота стояли настежь открытые, и хозяин велел прислужнику запереть их. По сю сторону частокола, внутри усадьбы, росло много кокосовых пальм. В конце дорожки, проложенной к воротам, с обеих сторон высились флагштоки, поставленные на искусственных холмиках, футов в десять вышиною. Вокруг основания каждого флагштока вкопаны были короткие поддерживающие его столбики, выкрашенные в белый цвет и туго обмотанные тяжелой цепью. Флагштоки походили на мачты: они убраны были по-настоящему: на них красовались ванты, выбленки, гафеля и фалы [7]. На одном из гафелей вывешены были два ярких флага: один — вроде шахматной доски с белыми и синими клетками, а другой — в виде белого вымпела с красным диском посередине. Согласно правилам международного морского устава, этот сигнал давал знать о беде.
В отдельном уголке усадьбы сидел нахохлившись ручной сокол.
Белый человек посмотрел на птицу и подумал, похоже ли его самочувствие на ощущения сокола, и улыбнулся при мысли о сродстве между человеком и птицей. Он встал с качалки и распорядился ударить в большой колокол, возвещавший работникам плантации об окончании дневных трудов и о возвращении с полей в шалаши. Спустя некоторое время он опять оседлал человека-коня и отправился совершать свой последний обход.
В барак привели двух вновь заболевших. Он заставил их принять касторового масла и поздравил себя: день выдался легкий — умерло всего только трое; осмотрев мимоходом сушильню для копры [8], где еще продолжалась работа, он обошел жилища своих рабочих, чтобы посмотреть, не скрываются ли там больные, которых велено было тотчас же подвергать изоляции. Возвратившись домой, он выслушал доклады своих приказчиков и отдал необходимые распоряжения на завтрашний день. Лодочников он отправил в дом на ночевку, как это всегда было принято делать из осторожности, после того как вельботы [9] вытащены из воды и поставлены под замок. Предосторожность нелишняя, ибо на чернокожих нельзя было положиться, и если оставить вельбот вечером на берегу, то на следующее утро не досчитаешься человек двадцати. С тех пор, как доставка каждого чернокожего на плантацию стала обходиться хозяину в тридцать долларов или около того, смотря по тому, на какой срок он был завербован, на бюджете Берандской плантации тяжело отзывалась потеря в людях. Кроме того, и вельботы стоят недешево на Соломоновых островах. Участившаяся смертность ежедневно сокращала оборотный капитал. С неделю тому назад семеро туземцев сбежали в лесные дебри; четверо беглецов вернулись изнуренные донельзя лихорадкой и сообщили, что двоих товарищей зарезали и сожрали гостеприимные лесовики, а седьмой все еще бродит недалеко от берега и высматривает, как бы украсть челнок или лодку и отправиться в ней к себе на родину.
Вайсбери принес показать хозяину пару зажженных фонарей. Белый человек осмотрел их и, удостоверившись, что они горят хорошо, широким, ярким пламенем, одобрительно кивнул головой.
Один фонарь подвесили на гафель флагштока, а другой оставили на открытой веранде. Фонари эти служили путеводными огнями для судов, прибывавших в Беранду. Их зажигали, осматривали и вывешивали ежедневно по вечерам в течение круглого года.