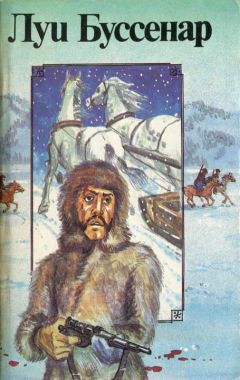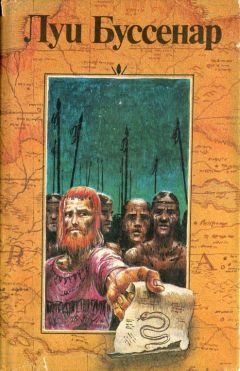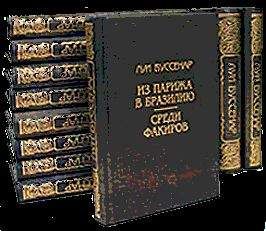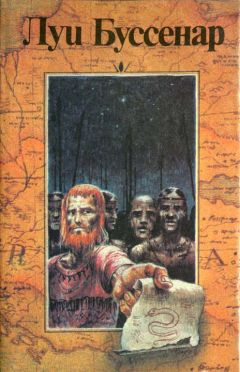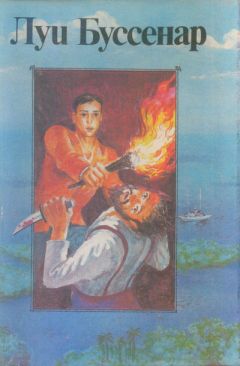— Каторжники, — шепнул один из пленников своему товарищу. Тот как раз, чтобы не упасть, вцепился, ища опору, в торцы бревен, выпиравших из придорожной избы.
Повстречавшихся арестантов московские судебные власти приговорили к каторжным работам в Забайкалье, обрекая на муки и безвременную смерть в ледяном аду, именуемом Восточной Сибирью. Серые армяки, легкая обувь, наполовину обритые головы, обмороженные лица. На ногах кандалы с цепью, прихваченной у пояса веревкой. Кое-кто из заключенных обернул железные кольца тряпьем: этим счастливчикам удалось собрать милостыню, и кузнец за соответствующую мзду изготовил им оковы чуть пошире. Ножные кандалы дополнялись наручниками, соединенными столь короткой цепочкой, что держать руки можно было только спереди. Находившихся в одном ряду — от шести до восьми человек — приковали друг к другу. Стоило кому-то оступиться, как общий ритм движения нарушался и оковы впивались в кожу, покрытую язвами от постоянного соприкосновения с металлом, заставляя заключенных корчиться от жгучей боли. Жестокость, с какой этих обездоленных заковали в железо, преследовала вполне определенную цель — отвратить даже мысль о побеге.
За скорбной партией каторжан в таких же серых кафтанах, только с желтым квадратом на спине, брели ссыльные, или, как их еще называют, поселенцы, осужденные на бессрочное жительство в Сибири. Желтый лоскут — единственное, что отличало одну категорию отверженных от другой, поскольку у ссыльных — те же кандалы, так же разбитая в дороге обувь и те же муки.
По обе стороны колонны выстроились два ряда солдат. Они шли, посвистывая или напевая, и не задумываясь пристрелили бы каждого, кто отклонился бы с пути. Тем более что пять рублей, положенные за убитого при попытке к бегству, представляли собой солидное состояние, вполне достаточное, чтобы в течение месяца утолять вечно мучащую казаков жажду.
В обозе плелись отобранные у крестьян из соседних деревень низкорослые сибирские лошадки — худые, измученные, с грязной шерстью — и натужно волокли за собой повозки с жалким скарбом поселенцев, а то и с умирающим, чье источенное хворью тело подпрыгивало на каждой рытвине, приумножая страдания несчастного.
За повозками тащились жены поселенцев, согласившиеся следовать в этот горестный край. Кое-кому из них посчастливилось за особую мзду пристроиться среди клади рядом с больными, которых знобило от холода и недомогания. Большинство же шли пешком. Женщины вели за руку детей.
Бедные малыши спотыкались, падали. Тогда матери — отцы ведь не могли выйти из колонны — брали их на руки и несли то на спине, то на плечах, пока сами не валились от усталости.
Замыкала шествие еще одна группа военных. Конвоиры со свойственной российской солдатне грубостью подгоняли отстававших ударами приклада. Поднадзорные хрипели от изнеможения и, то и дело оступаясь, продолжали покорно брести по обледенелым рытвинам, пока в их телах еще теплилась жизнь.
Брошенные по дороге трупы быстро укрывались снежным саваном, и было ясно, что с наступлением темноты их разорвут на куски оголодавшие волки.
Прижавшись к избе, испуганные, потрясенные чужеземцы наблюдали зловещую картину, не отваживаясь высказать вслух мучившую каждого из них мысль: «И я могу оказаться среди этих страдальцев!»
Колонна — пятьсот обреченных на муки человек — остановилась на площади, и к небесам внезапно взмыла мелодия — скорее рыдание, нежели песня: это каторжники и ссыльные затянули известную всем русским узникам «Милосердную» — своего рода моление о помощи.
Раз услышав сию душераздирающую, наподобие мизерере[3], жалобу, исполненную под зловещий аккомпанемент кандального звона в торжественно-возвышенной манере псалмопения, ее уже не забудешь. Простые, неоднократно повторяющиеся слова, по-детски наивно повествующие о постоянно испытываемых каторжниками муках, не могут оставить равнодушными крестьян из расположенных окрест деревень. Заслышав горькую песню, сибиряк тотчас откликается на нее всей душой, не задаваясь вопросом, за что понес узник столь жестокое наказание. Ему, всю жизнь гнувшему спину в суровом северном краю, по собственному опыту знакомы невыносимые тяготы, обрушившиеся на бедных заключенных. Одни обездоленные внимают мольбе других. И то старик инвалид, то широкоплечий рабочий, а то и полунищая вдова с низким поклоном подносят узнику скромную милостыню — медяк или кусок черного хлеба.
Солдаты, в точном соответствии с приказом, запрещавшим общение задержанных с осужденными, растолкали прикладами каторжников, с удивлением поглядывавших на странных подконвойных, и привели путешественников к дому, где их ждал офицер.
На улице уже совсем стемнело, и капитан Еменов, готовясь к встрече, осветил свою скромную обитель на полную мощь, что вообще-то не принято в этих краях. Сбросив енотовую шубу, он остался в синем мундире с золотыми пуговицами, туго подпоясанном ремнем. На ногах — сапоги со шпорами. Одетый как на парад, офицер стоял возле огромной, основательно сложенной печи, в которой потрескивали круглые сосновые поленья. Рядом на огромном столе лежали бумаги, прижатые за неимением пресс-папье тяжелым револьвером.
Солдаты, стянув с пленных шубы, подтолкнули чужеземцев в широко распахнутую дверь и, сами оставшись в прихожей, опустили ружья. Даже не кивнув в ответ на вежливое приветствие, начальник конвоя, словно полицейский, видящий людей насквозь, пронзил задержанных взглядом своих бледно-голубых глаз. Вопреки ожиданию, лица приезжих, небольшого роста, но крепко скроенных и далеко не первой молодости, излучали искренность и доверие.
Прежде всего капитан обратил внимание на их бороды — такие же, как у мужиков, с той, однако, разницей, что аккуратно ухожены: у одного — белокуро-золотистая, у другого — черная как смоль. Видно было, что оба привыкли к опрятности — первому условию комфорта. Тонкие, «аристократические» руки, элегантные, сшитые по фигуре дорожные костюмы. В общем, пленники явно были не из простонародья.
Какое-то время капитан пребывал в задумчивости. Несколько раз провел рукой по седеющим бакенбардам, касавшимся, как у всех казаков, пышных усов. Потом, картинно развернув плечи, сказал по-русски в свойственной ему грубоватой манере:
— Кто вы?
— Месье, — твердым голосом, но почтительно произнес по-французски блондин, — я имею честь сообщить вам, что ни я, ни мой друг не знаем русского. И поэтому вынуждены просить вас обращаться к нам на нашем языке, которым вы, как и многие ваши соотечественники, превосходно владеете.
— Ого, а вы хитрее, чем я думал! — воскликнул офицер. — Ну что же, буду задавать вам вопросы по-французски, хотя мне ничего не стоит научить вас правильной русской речи: достаточно лишь призвать в учителя Ивана. У него одно средство обучения — кнут, которым солдат владеет отменно!