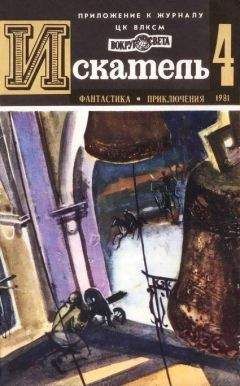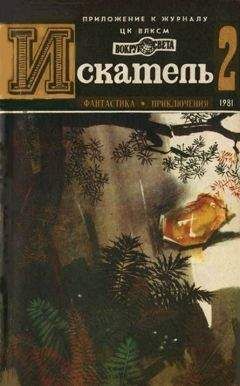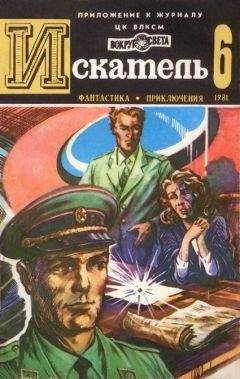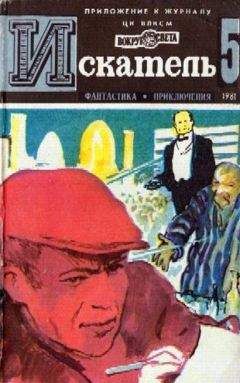— Оставим покойного.
— Есть немало других, включая нашего атамана, а также хорошо вам известного полковника Скипетрова. Я уж не говорю о Дмитрии Леонидовиче Хорвате, Вологодском, Путилове, Калмыкове, наконец. Вот видите, я называю вам самых разных людей, у которых вам нетрудно навести обо мне справки. И потом, почему я должен в чем-то оправдываться? — Сибирцев неприязненно смотрел на Кунгурова.
— Мне не оправдания нужны, Мишель, — примирительно сказал Кунгуров, видимо, названные фамилии произвели на него впечатление, — а ваша помощь. Вы меня неверно поняли.
— Помощь — другое дело, — сразу остыл Сибирцев. — Еще коньяку?
— С удовольствием, — буркнул Кунгуров, — только, с вашего позволения, не такими лошадиными дозами.
— Это как желаете, — рассмеялся Сибирцев.
Он откупорил новую бутылку и, налив себе полфужера, подвинул бутылку Кунгурову. Поднял свой фужер и, вертя его за ножку, стал рассматривать коньяк на свет.
— Вы бы не торопились, Мишель, — сказал Кунгуров, чувствуя, что Сибирцев может опьянеть.
— Нализаться? — усмехнулся Сибирцев. — А что еще прикажете делать, Николя?
— Вернемся к нашему разговору.
— Сухой вы человек, ротмистр, — вздохнул Сибирцев и отставил фужер. — Ну, слушаю вас.
— Мне нужно, чтобы вы вспомнили, где и когда встречались с Сивачевым и о чем могли говорить. Иными словами, какие сведения, если таковые были, мог он почерпнуть из ваших разговоров?
— Боюсь, что помощь моя будет невелика, — помолчав, сказал Сибирцев. — Ну, во-первых, я его, честно говоря, никак не вспомню… Хотя… Надо увидеть. А во-вторых… Что я мог выболтать? А черт его знает?.. Полагаю, ничего достойного внимания. Мы ведь с вами, Николя, принадлежим к тому поколению, которое научили держать язык за зубами. Правда, при моем общительном характере… Нет, не думаю.
— Я мог бы вам предъявить этого Сивачева. Может быть, вспомните?
— Делайте как считаете нужным.
И они поехали в контрразведку.
Комната, куда они вошли с Кунгуровым, была полутемной, низкой и сырой. Свет, казалось, с трудом просачивался в узкое, забранное решеткой окно. Кунгуров повернул выключатель, и под потолком вспыхнула пыльная тусклая лампочка без абажура.
— Садитесь, Мишель. — Кунгуров показал на широкую скамью у стены. — Сейчас его приведут, и я вас оставлю на минутку. Постарайтесь вспомнить.
Посреди комнаты стояла привинченная к полу табуретка. На нее, вероятно, должен был сесть Яков. Обитая железом дверь с волчком. Оттуда Кунгуров будет наблюдать за ними. Удобная позиция. Поэтому ни одного лишнего слова, ни одного неосторожного движения, ни одного жеста.
Послышались тяжелые шаги. Тягуче заскрипела дверь, и двое солдат ввели человека в истерзанной, окровавленной рубашке. Он сел на табуретку, держа руки за спиной. Солдаты вышли, закрыв за собой дверь.
Наступила тягостная до звона в ушах тишина. Скрипнула табуретка. Сибирцев услышал тяжелое, прерывистое дыхание арестованного. Ничто в этом человеке не напоминало Якова. Спутанные грязные волосы, опухшее от кровоподтеков лицо.
Двумя руками оттолкнувшись от скамьи, Сибирцев поднялся, шагнул ближе. Арестованный медленно поднял голову, и Сибирцев чуть не вскрикнул: он увидел почерневшие от боли Яшины глаза. В них было только тупое, покорное, животное равнодушие, и больше ничего. Никаких чувств. Яков бессмысленно посмотрел на Сибирцева, и голова его поникла. Сибирцев постоял еще мгновение и повернулся к двери. Она тотчас отворилась, и вошли солдаты. Один из них взял Якова за плечо, он послушно поднялся и, с трудом передвигая ноги, пошел из комнаты, не оборачиваясь и не поднимая головы.
Вошел Кунгуров, пытливо взглянул на Сибирцева.
— Узнали, Мишель?
— Ну и поработали вы… — Сибирцев сглотнул комок в горле. — Конечно, узнал.
— Служба, — пожал плечами Кунгуров. — Что скажете?
— Может быть, не здесь? — Сибирцев брезгливо огляделся.
— Не возражаю, — охотно подхватил контрразведчик. — Поднимемся ко мне.
В кабинете Кунгурова, безвкусно обставленном пышной мебелью, Сибирцев позволил себе слегка расслабиться. Слегка, ибо понимал, что сейчас начнется второй допрос. Он развалился, закинув ногу на ногу, в широком и низком кресле и после разрешающего кивка хозяина кабинета закурил. Кунгуров и сам вставил в угол рта папиросу, но не зажег ее, а подвинул пепельницу Сибирцеву.
— Дайте чего-нибудь выпить, — небрежно бросил Сибирцев.
Кунгуров тут же сделал какое-то непонятное движение рукой, и в кабинет вошел солдат. Кунгуров молча кивнул ему, и тот достал из шкафа точно такую же, как у Сибирцева, бутылку «Мартеля» и, откупорив ее, поставил на край широкого письменного стола вместе с двумя небольшими серебряными рюмочками. Кунгуров снова кивнул, и солдат вышел.
Сибирцев курил, пуская дым в лепной потолок.
— Прошу, Мишель, — пригласил Кунгуров, но тут же словно спохватился: — Виноват, виноват…
Он подошел к шкафу и достал из него фужер, взглянул на свет: чистый ли? — поставил рядом с рюмками, налил наполовину.
— Хозяин должен помнить привычки гостя, — и капнул себе в рюмку. — Прошу.
Сибирцев молчал, так же рассматривая потолок и чувствуя нетерпение контрразведчика.
— Кажется, я могу вам кое в чем помочь, — наконец сказал Сибирцев. — Не уверен, что это то, что вам нужно, но… Кто знает?.. Помните, в прошлом декабре… нет уже в январе, когда примчался этот наш сумасшедший Скипетров, Григорий Михайлович готовил иркутскую акцию? Вы помните, по поводу нашего несчастного адмирала… Так вот. Я зашел к шифровальщикам и, если не ошибаюсь, говорил с ним, с Сивачевым, о скором наступлении… Он мне, кстати, казался вполне приличным человеком.
Сибирцев рассказывал контрразведчику об одной из секретных акций по спасению Колчака из Иркутской губчека. Она готовилась в строжайшей тайне, но именно поэтому была известна даже нижним чинам, никакого отношения к штабу не имеющим.
— Так вот, если Сивачев оттуда, — Сибирцев пальцем показал под свое кресло, — то я теперь понимаю, почему это дело с треском провалилось.
Кунгуров внимательно смотрел на Сибирцева и соображал, правду он говорит или валяет дурака. Но Сибирцев был серьезен и даже заметно удручен.
— Но почему именно с ним возник этот разговор? — спросил контрразведчик.
— Ах, Николя, — Сибирцев слабо махнул ладонью, — вы же понимаете… Видимо, я что-то сказал об адмирале, Сивачев посочувствовал. Вы прекрасно знаете о моем отношении к Александру Васильевичу… Я сказал, он посочувствовал. Сочувствие в наше время — единственное, что осталось из всех естественных человеческих проявлений. Падки мы на него. Думаю, поэтому. Впрочем, не помню. Хотя разговор такой, если не ошибаюсь, был.