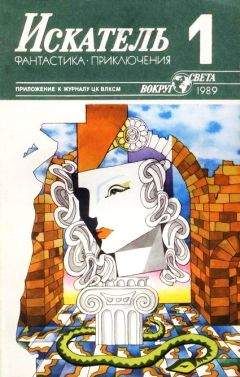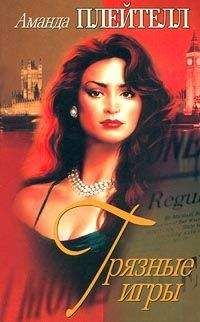Когда Капиталина узнала о всех бесчинствах, творимых в «УПОСОЦПАИ», она решила отослать Проект решения на подпись Бородулину немедля. Так и было сделано.
Поздно ночью Вово с Капиталиной сидели в вестибюле и беседовали. Ведь по-прежнему у Капиталины не было квартиры, она чуждалась всего меркантильного. А Вово не мог пойти в дворницкую после всех парижских триумфов — это казалось ридикюльным! Друзья вспоминали пережитое, делились, как принято выражаться, творческими планами, а больше всего хвалились приобретенными в Париже туалетами. Капа не снимала с головы шапочку из перьев цапли, Вово же сидел в синем фраке с оранжевой искрой.
Вскоре явился неугомонный Шикин с очередной жалобой, написанной, как он выразился, в стиле «ампир». Что это означало, мог объяснить только сам фантаст, но не захотел.
— А я по вашу душу, Владимир Андреевич, — ласково сказал он Бабаеву. — Рукопись-то все равно придется вернуть.
Вово был настроен благодушно, поэтому бросил писателю:
— Дай срок — я тебе десять рукописей верну. — И пригласил: — Садись, Толстой, садись, граф, к моему столу! «Фин-шампань» из самого Парижу! Угощаю!
Шикин не обиделся на то, что его назвали Толстым, хотя мог бы. Он по-свойски устроился за маленьким столиком в гардеробной и разделил трапезу с ненавистным врагом-похитителем.
— Хорошо, что вы здесь, мужики! — вдруг всхлипнула Капа, обмахиваясь перламутровым веером. — При вас они меня не тронут…
— Пусть попробуют! — залихватски воскликнул Вово. — Мы им всыплем по первое число! А кого бить-то надо, этуаль ты наша бесценная?……
— Ах, Вовка, Вовка… — застонала Капа. — Плохо мне… Тя-яжко…
— А выходи-ка ты, Капушка, за меня замуж, — вкрадчиво предложил Бабаев. — Авось полегчает.
Тут встрял Шикин:
— Владимир Андреевич, а вы ее там, в Париже, не продали часом?
— Ко-го?! — изумился Бабаев. — Капку? Да кому она там нужна, в Париже этом? Там такие красоточки — закачаешься!
Изобретатель в восторге поцеловал кончики пальцев.
— Нет, вы не уловили мою мысль, — менторски продолжил Шикин. — Я говорю про рукопись. Судьба Капиталины Гавриловны волнует меня в меньшей степени.
— Вре-ешь! — возмутилась Капиталина, треснув писателя веером по голове. — А чего ж ты таскаешься сюда каждый день? Не влюблен разве?
— Любовь… — задумчиво промямлил Шикин, прихлебывая «фин-шампань». — Это интересно… Но кто сейчас умеет писать о любви… Да и зачем?.. Скажу по правде, меня влечет один сюжетец. Если работа пойдет, это будет дивный сюрчик, нечто умопомрачительное, ядовитое, как пресловутое дерево анчар.
Капа с Вово не поняли ничего, но со вниманием уставились на писателя. Шикин, увидев это, разошелся и решил дать плебеям вдохнуть аромат зловещего цветка своей прославленной фантазии.
Он заговорил, нет, запел о пришельцах, столь хорошо знакомых ему и, признаться, опостылевших, как соседи по дому, как собственное творчество и как многочисленные братья фантасты. По давней привычке он описал пришельцев гуманными, но способными во имя этой гуманности на страшные вещи! Пришельцы… Они всюду… Они вселяются в наши тела… Они подсматривают за нами из тьмы зрачками кошачьих глаз… Они задевают нас крыльями летучей мыши… Они сгрызают наши души изнутри…
— И вообще, мы — это не мы, — гробовым голосом резюмировал Шикин. — Мы — это они. А они — это мы. И вот, простые вы мои, когда человека осеняет некая невидимая сила, он встает! — Писатель встал в полный рост. — Он идет! — Писатель сделал шаг по направлению к Вово. — Он кладет ему тяжкую длань на плечо! — Шикин опустил руку на плечо изобретателя. — Он говорит, как бы вдохновленный свыше: «Где моя рукопись, Бабаев?! Отдай ее мне, или я уничтожу тебя!» Капиталина исторгла вопль ужаса. Не таков был Вово — он мелодично захрапел, привалившись к вешалке. Его детское, розовое, прозрачное, как мармелад, личико, безмятежно улыбалось.
«Какие дураки…» — со скукой подумал Шикин. Меж тем сверху, из кабинета Капы, донесся шум. Что-то с грохотом обрушилось, посыпался звонкий град из осколков. Капа вцепилась в руку Шикину и, еле ворочая языком от страха, взмолилась:
— Звони в милицию! По мою душу пришли!
— Не надо так верить в эти вещи. Я же пошутил. Пришельцев вообще нет и никогда не было.
Шикин был искренен. Он действительно не верил в пришельцев, хотя зарабатывал свой хлеб именно благодаря им.
Наверху внезапно стихло. Капа измученно вздохнула, отпрянула от Шикина и слабо затрепыхала веером.
В парадную дверь резко постучали:
— Не открывайте, — твердо сказал Шикин. — Это могут быть воры.
Но Капиталина, невменяемая от страха, двинулась навстречу своей судьбе. Как сомнамбула, она подошла к двери и не своим, а каким-то тонким, жалобным голосом спросила:
— Кто там?..
— Почта, — ответили ей. — Циркуляр от Бородулина.
Кариатида открыла дверь. В вестибюль вошел, стуча мраморными сапогами, Гермес. Не глядя на храпевшего Вово, на Шикина, прихлебывающего «фин-шампань», он строго сказал Капе:
— Ну, голубушка, пойдем. Доигралась.
В ту декабрьскую ночь мела метель. Гермес под руку с кариатидой медленно шел вперед. Она совершенно покорилась воле бога и не задавалась вопросом, куда ее влекут.
В молчании они миновали канал. Сад с заколоченными в ящики-гробы статуями, бескрайнее поле и свернули по переулку к реке. Здесь Капиталина начала дрожать: страшная мысль, что бог собирается утопить ее в полынье, молотом ударила по каменному сердцу. Но Гермес пошел вдоль реки, мимо пусто глядящих дворцов и одинаковых фонарей.
Алмазная красавица метель вольно неслась над городом. Сверху он казался огромным, безлюдным и страшным, будто не жил тут никто и никогда… никто и никогда… никто и никогда…
…Было время — решили на болотах город строить. Понаехали щебечущие иноземцы, подивились на дикий, унылый простор, но за дело взялись с охотой. Странный вышел город: плоский, как ладонь, с разбегающимися улицами-линиями, с воткнутой в небо золотой иглой. Созданный вопреки природе, благодаря долгому мучительному усилию воли и фантазии, город, как и положено первому красавцу, никого из людей и никогда к себе не приближал.
Какое высокомерное величие встречает вас по утрам, когда сырость и сизый мрак висят над дворцами, мостами и выпуклой, черной водой каналов. Идешь, содрогаясь от холода, и мысли неопределенно-унылы, а сердце ноет. К чему, думаешь, вся эта красота, если она так равнодушна к тебе и вот уже два с лишним столетия кичится тем, что расцвела на гиблой северной почве.
Много ликов у города, и самый ужасный — ночной, с храпом выпускающий из легких ядовитый гнилой воздух. Тогда мерещится, что где-то внутри этого каменного миража открываются щели в болотный ад, и ползут оттуда, поднимаясь к звездам, спутанные нити туманов.