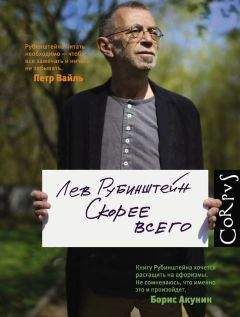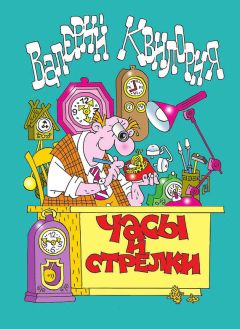царская, сниженная против царских, а просечь, какой перед тобой империал, может только знающий человек. В ювелирном мире Озолс был профаном. Валюта – да, хаживала через его руки, но не золотые изделия и не камни. Нужен оценщик. Теперь второй свёрток…
Туго спрессованные, сложенные в несколько раз листы кальки. План чего-то. Ещё план. Ещё. Чертежи вроде бы строительные, похожие на планы заводских зданий, так примелькавшиеся за эту зиму – бесконечно шуршали они в руках полицейских, допытывавшихся, откуда на заводе не учтённая ни на одном из планов будка. Хватит. Металлический ящик надо утопить. Без «золотого содержания» он стал значительно легче – вот, кстати, довод в пользу подлинности золота. Да и бумага весит. Озолс положил искорёженный ящик в рюкзак, прошёл на зады усадьбы. Здесь начиналась тропинка в лес, дальше было болотце – и ящик навеки упокоился на дне одного из окошек чистой воды между кочек. Теперь назад в дом. Сложить всё обратно. Деревянный ящик без металлического весил всё-таки посильно, и даже обмотанный тряпками, чтобы не выпирали углы, вполне помещался в рюкзак. На заводе он выждал неделю, а потом взял отпуск.
И вот сейчас сидит он в своей гостиной, точно зная о подлинности двух золотых вещей из той находки. Тех, что без камушков, так безопаснее. Знакомый ювелир, жену и сына которого он обеспечивал туфлями и джинсами, подтвердил подлинность золотого браслета и самой толстой золотой цепочки. И царское происхождение клейма на них. Определил время изготовления – приблизительно середина девятнадцатого века, даже вторая половина. О художественной ценности отозвался пренебрежительно: купеческая роскошь, аляповаты, главное в этих изделиях вес. Косвенно это подтверждало и подлинность остальных, во всяком случае, сильно возрастала вероятность этой подлинности. Хотя сто процентов нельзя давать ни в каком случае, кроме как если сам стоял рядом с ювелиром во время экспертизы. Озолс выпил ещё коньяку и закусил швейцарским сыром – французских по корню названий сыров он не запоминал, откровенно потешался над «этим сюсюкающим языком». Настоящий язык – это немецкий, он даже лучше латышского. Латышский понятнее, но немецкий твёрже, это язык прирождённых властелинов. Коньяк тоже присущ властелинам, он уравновешивает дух и делает плавнее, благороднее мысль. Вот он качается в рюмке, отбрасывая на столик золотистые отблески. Его уровень – едва на палец от донышка, но это тот же напиток, что в бутылке. Уровень коньяка в бутылке – на целую пядь. А свойства, что в рюмке, что в бутылке, одни и те же, благородство и нега. Значит, и он, Озолс, хоть сам и невелик, причастен мощи властелинов, имеет прирождённое свойство владеть окружающим его миром, и залог этого – в кальках и бумагах из того ящика…
Цепочка ушла Валере. Только он мог помочь разобраться в чертежах. Потому что на одной из калек Озолс явственно увидел трансформатор, электродвигатель, выключатель с надписями возле: AUF и NIEDER. Схема того самого лифта. Ведь Валера был не просто электрик, он был электрик из заводского ОКСа – отдела капитального строительства. И значительно лучше самого Озолса знал немецкий.
Тот вечер, когда они с Валерой расстелили по столику, дивану, креслам все кальки, разложили бумаги – тот майский вечер, пахнувший черёмухой и ветерком с моря, Озолсу тоже запомнился во всех подробностях. Словно свалился с него тогда, как вконец излохмаченная спецовка, шахтный, ресторанный и золотой морок. Валера двигал листы, сворачивал и разворачивал их по очереди, водил по ним пальцами, вымерял что-то линейкой, переходил от столика к дивану, согнувшись близоруко. И вдруг сказал:
– Вот это туннель метро.
Донельзя чётко увидел тогда Озолс каждую линию на кальках, каждый блик на буфете, даже мягкий отсвет жёлтой грани карандаша в руке Валеры. Будто предстояло – будто жизнь от этого зависела! – запомнить навек каждую чёрточку всего вокруг.
– Как – метро?
– Метро. Вот токоведущий рельс, вот…
Валера стал показывать карандашом, не касаясь кальки, только «подвешивая» остро заточенный грифель над тем или иным местом чертежа.
– Вот подстанция, вот схема подключения…
Стали листать бумаги, оказавшиеся пояснительной запиской к чертежам. Слово “U-Bahn” встречалось там на каждом шагу. Озолс его тоже знал. Так называлось берлинское метро. Метро. В Риге. Проектируемое немцами. Какими немцами – тоже было несомненно. И не по договору между германской строительной фирмой и, скажем, улманисовским правительством или рижским городским магистратом времён Первой независимости – нет, если бы речь шла о договоре, не упоминалось бы в экономическом обосновании слово «Ostarbeiter». А расходы на заработную плату рабочим, напротив, упоминались бы. Но нет – там упоминалось только жалованье «dem arischer State», арийского штата. Неарийский штат предполагался бесплатным. Ну что ж, неариец в робе, подумал Озолс, вот тебе и повезло, ты удостоился хотя бы посмертной благодарности – твои товарищи сгинули безвестно, а ты вынес для меня вот эти документы и упоминаешься хотя бы в полицейском протоколе.
А вот и список арийского штата. Расчётная ведомость выплаты вознаграждения увольняемым по случаю ликвидации предприятия. Девятое августа сорок четвёртого.
Нет, не показалось. Вот, написано – Силин. Латиницей, да ещё с претензией на готику: Silin. Но ведь понятно.
Силинь?
Ещё знакомая фамилия: Вайман. Ещё и ещё.
Силинь, конечно, не один на всю Латвию. Да и сейчас, когда в такой моде легион, что могло бы получиться из размахиванья этим листком? Люди, которые были за новый порядок, были за порядок, это главное. Поэтому правительство их уважает. Разве что приобретённое тогда имущество может быть признано недобросовестно приобретённым – так, кажется, это называется в европейских судах. Имущество. Это уже что-то из повседневной деятельности комиссии по реституции. В комиссии по реституции – недобросовестные приобретатели! – сверкнуло в мозгу Озолса майской грозой.
Тот самый козырь, за которым он нырял в «преисподнюю».
Ищите и обретёте. Вот оно, обретённое.
8. Вода и свобода
Пограничный пост неподалёку от Карсавы, у деревеньки Гребнева, перед российской уже, псковской Убылинкой, выглядел как все погранпосты нынешнего времени. Будка из серого кирпича, отделанная пояском слегка выступающих красных кирпичей над окнами. Через сотню метров – почти точно такая же будка, но уже без отделки, поугрюмее, погрубее. И между двумя будками – отрезок шоссе, заплетающийся вилеоборотом, сам себя пересекающий, обнесённый толстенными бетонными балками. Те лежали вдоль шоссе таким образом, что могла проехать только одна машина и только в одну сторону. Выстриженные газоны между этим, ни деревца, ни куста, пустошь. И разбегаются по пустоши в оба направления поперёк шоссе, от будок, полосатые оранжево-зелёные столбики. А также шлагбаум, знак остановки, плакат: «Стой! Проверка документов!», дорожный знак с расстояниями до ближайших городов на двух языках, латышском и английском.
Три фургона остановились, не доезжая будки. Голубой с жёлтым колосом.