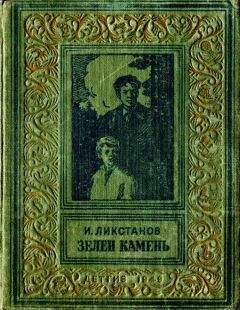4
Приземистый особнячок с мезонином в глухом переулке был пожизненно закреплен за Георгием Модестовичем Семухиным, художником камнерезного и гранильного дела. Орденоносец, почтенный участник многих выставок, персональный пенсионер, здесь он и жил со своей семьей. Старенький Георгий Модестович присаживался к станочку редко, но его не забывали. По крутой лестнице в мезонин иной раз поднимались большие ученые и почтительно толковали со стариком о причудах самоцветов. Покряхтывая, взбирались на верхотурку друзья Георгия Модестовича, знатные гранильщики, пошуметь за рюмкой водки об уральской и екатеринбургской грани. Наведывались сюда с таинственным видом искатели камня — горщики, показывали удивительные находки, позволяя себе в исключительном случае скупую похвалу: «Добрый камень… ничего, подходящий камень». Порой здесь открывались чудеса, достойные алмазного государственного фонда. Георгий Модестович становился озабоченным, сердитым, садился за свой станочек и забывал о времени и еде.
У Георгия Модестовича, шефа школьного минералогического кружка, каких много в Горнозаводске, Павел и Валентина бывали запросто. Старик, которого они за глаза называли мил-другом, обращался с ними строго, покрикивал, если они своевольничали за его станочком, но в добродушные минуты рассказывал удивительные истории о редкостных камешках, о горных тайностях.
— Нет, не сплю и не собираюсь, — сказал старик, когда Павел сел против него за стол, накрытый клеенкой, и налил себе чаю. — Коротаю ночь с думками своими да чаек тяну. Посиди, посиди со мной, сын милый. Разговор заведем, враз умнее станем.
Прихлебывая из каменной кружки с лазоревыми цветочками, старик, улыбаясь, смотрел на Павла. На первый взгляд странное несоответствие было между синими, даже сиреневыми детскими глазками Георгия Модестовича и громадными усами, которые густо разрослись под круглым красноватым носом и соединились с такой же бородой, буйной, жесткой, изжелта-белой.
— Что давно не бывал? Я, поди, соскучился по тебе да по Валюшке.
Узнав, в чем дело, он потянулся через стол, легонько потрепал Павла по плечу и проговорил с уважением:
— Ну, поздравляю, поздравляю, горный инженер! Знал я, знал, конечно, что ты диплом держишь: в газете про тебя писали, как же!.. Ты теперь для государства нужный человек. В «горе» работать — это, знаешь, не на кулачках боксом драться, да… И когда это вы с Валюшкой поднялись, когда успели — не постигаю!
Вскочив, он прошаркал через просторную и почти пустую комнату, выдвинул из-под железной койки пестрый сундучок невьянской работы, порылся в нем, сунул что-то колючее в руку Павла и свел его пальцы в кулак.
— Возьми, коли по душе придется, — сказал он сердито, сел на место и снова замерцал своими сиреневыми глазками.
Павел разжал пальцы: на ладони лежала звезда густого рубина.
— Что это вы, Георгий Модестович, такую ценность! — запротестовал он.
— Ты не о рублевке думай, а на работу гляди! Сколько ко мне ходишь, а умен еще не стал! — прикрикнул на него гранильщик обиженно. — «Ценность, ценность»! Сам знаю, что ценность. А грань-то какова, вот о чем думай…
— Ваша грань, что тут еще скажешь!
Восхищение, прозвучавшее в голосе Павла, разгладило морщинки, набежавшие на выпуклый лоб Георгия Модестовича.
— Ну и носи, будь здоров-удачлив, — пожелал он. — На пиджак нацепи, коли своего ордена по скромности не носишь, вот так… Я рубин люблю. Говорят, что он крови сродни, а я этого не признаю. Пустой разговор! Рубин, знаешь, есть сгущение огня, рубин-камень от огня взялся. Милый камень, теплый. У меня и для Валюшки Абасиной такая звездочка наготовлена. Ты ей не сказывай. Девицам, знаешь, только несуленый подарок дорог…
Вдруг он сорвался с места, открыл дверь на балкончик, распахнул боковое окно и погасил лампочку, свисавшую над столом. Тотчас же все преобразилось, все наполнил тончайший свет — и синий, и чуть желтоватый, и точно розовый. Светоносное облако на востоке, будто завороженное тишиной, лежало неподвижно. Невозможно было ввести эту красоту в рамки человеческого представления. Ни один пурпурный, вишневый, красный камень не мог бы послужить мерой для легкого, живого света, разлившегося между небом и землей.
— Видишь, какое богатство батюшка Урал кажет нам, глупым! — с глубоким радостным вздохом прошептал Георгий Модестович. — Климат наш строгий — и вдруг такая благодать! Кто видит и понимает, тот богат, а кто проспит, тот беден, мне его жалко. Так ли?
— И какая тишина! Можно сказать, что нет ни атома звука.
— Хорошо придумал, — одобрил старик. — Атом — ведь это весьма мало, ногтями никак не подцепишь.
Закрыв окно и дверь, Георгий Модестович накинул на узенькие плечи меховую кацавейку, присел к столу и налил гостю свежего чаю.
— Так глянулась тебе звездочка-то?
Хороша! — ответил Павел, любуясь подарком, — Ключевой средний камешек дает цвет озерком, и глубина у него небольшая. Цвет днем и при ярком свете будет хорошо виден… Лучи вы огранили в форме коротких мечей. Тут цвет показан в мыске переливом. Оправу заказали из черненой стали, как бы скрыли ее. Лучи свободны…
— Самостоятельные лучики, — признал Георгий Модестович. — Понял гранильщика, ничего не скажу.
— Кстати, — проговорил Павел, продолжая рассматривать звезду, точно не придавая значения своему вопросу, — вы ведь всех уральских мастеров гранильного дела знаете. Об одном из них я от вас не слыхал. Знали ли вы Халузева, Никомеда Ивановича?
Остолбенев на минутку, Георгий Модестович уставился на Павла; тот все любовался рубиновой звездой.
— Откуда ты такое подхватил? — поинтересовался старик. — Где слышал про гранильщика Халузева? От кого?
— Случайность… Вот узнал, что в Горнозаводске есть гранильщик Халузев.
— Кто говорил? Говорил-то кто? — крикнул старик, начиная сердиться. — Какой дурак тебе сказал, что Никомедка мастер! Да он за всю свою жизнь камня на гранильный круг не ставил. Ишь, гранильщика нашел! Гранил, гранил Никомедка камень, да потаенно, чужой рукой. Наживался он, впрочем, не на камне. Хищеное золото скупал. Мельковский житель, одно слово! Ты бы брехунов в охапье да в воду. Вот пускают же славу!..
— Вы с Халузевым дело имели?
— Еще что придумаешь! Мне до него интереса николи не было. Давно уж его не видел. Может, в одночасье и помер за ненадобностью.
— За ненадобностью! — усмехнулся Павел. — Человек не из весьма уважаемых?
— Какое там уважение! Ну, понятно, если бы старый режим, упаси бог, сохранился, в большие люди вышел бы. А так что: притаился одиночкой в своем домишке, булочками торговал.